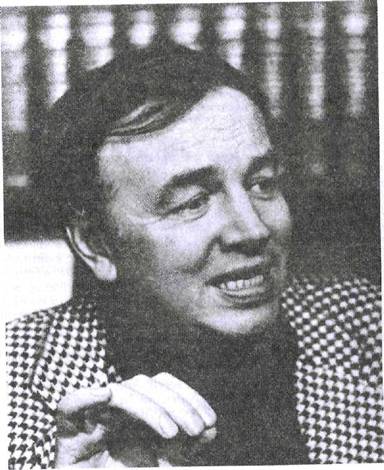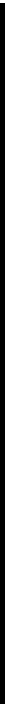
Глава шестая АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК
Поэзия Андрея Вознесенского
Этот файл я ставлю
в том виде, в котором получил от Альбины Ч., за что ей спасибо. Книги Барласа,
необходимой для редактирования, у меня нет. Г. Трубников 14.07.2007
Барлас
В. Я.
25 Глазами
поэзии: Об открытиях искусства и современных поэтах.—М.: Сов.
писатель, 1986.—288 с.
Книга известного критика В. Я. Барласа (1920—1982) — это
живой разговор о том, что открывает дли себя
читатель только благодаря ксхусству. Как узнать голос поэзии? Что нового приносит а мир поэт? В книге
рассказывается о народности творчества
А. Твардовского, о связи поэзии К. Симонова с моралью, о лирике военных лет М. Дудияа, об исканиях лирического героя Евг.
Евтушенко. Новое издание дополнено
главами о поэзии А. Блока, Б. Пастернака и А. Вознесенского.
4603010102—310
Б----------------------- 438—86 ББК 83 . ЗР7
083{02}—86
1
акого еще не бывало. Строки отрешенные, но
и уязвленные, холодно завороженные, расслабленно безудержные. И стихийная
устремленность навстречу всему, что запретно,гибельно, рушится, бросает вызов. Редкостная изощренная
готовность поэта чутко подхватить любой намек на это в созвучиях слов,
смещениях смысла,
переплетениях ассоциаций и с налету рвануться вдогонку за приманками мгновенно
чередующихся ощущений: «чем
случайней, тем вернее», чем парадоксальней
— тем притягательней, а если и на грани смысла, то еще вожделенней заглянуть и за эту грань.
Не хочу быть
голословным. Вот, например, раскручивается у Вознесенского «Скупщик краденого»
(сборник «Взгляд»)...
Мы в «малине», где «пугливая душа» скупщика «затаилась не дыша», Все нереально здесь:
Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей,
как вещевая лотерея:
вещи есть — но шиш
получишь!
Да и достаточно
неопределенно. (Символы каких предметов? Тех, что здесь перебывали? Или вот-вот
появятся? Или
просто вспоминаются сейчас?) Но тут точно срабатывает искра созвучия
рифм («реют», «лотерея» и следом «Лорелея») и детонатор хлесткой
ассоциации-присловья (второе двустишие) — и поэта затягивает розыгрыш только
что упомянутой лотереи. И снова неизвестно —от автора ли воображено
дальнейшее, или как бы намечено ворами; но и неважно это — суть в самом переборе
случайно возникающих
номеров и мгновенном отклике «выигравшей» ассоциации или созвучия (из набора
«вещей» лотереи). Смотрите: «неразборчивая цифра» — откликаются созвучия
(«Фишер», «шифер», «шифр»), и тут же — второй отскок в ассоциацию-цитату из «12 стульев» («ключ
 от сейфа с шифром,
где деньги лежат»); «236-49-45» — номер как таковой, а значит, и телефонный, и
пусть он — от номера, где вас может принять многообещающая дама (новый отскок в
дразнящее в этом контексте созвучие: «...денег. Демпинг!»); и еще ассоциация —
перекличка с ревом распоясавшихся болельщиков: «судью на мыло!» (№ 1968... Судья
класса «А», мыло
«Москва»); и еще...
от сейфа с шифром,
где деньги лежат»); «236-49-45» — номер как таковой, а значит, и телефонный, и
пусть он — от номера, где вас может принять многообещающая дама (новый отскок в
дразнящее в этом контексте созвучие: «...денег. Демпинг!»); и еще ассоциация —
перекличка с ревом распоясавшихся болельщиков: «судью на мыло!» (№ 1968... Судья
класса «А», мыло
«Москва»); и еще...
и еще...
А когда эта игра
начинает приедаться, почти сразу же завязывается новая — по образцу тех детских
песенок-прибауток,
где конец смыкается с началом. Толчок здесь, видимо, дает двустишие
«Размечталась, как пропеллер, воровская лотерея»; от пропеллера передается импульс и образ движения, а.
слово «воровская» скрепляет звенья завертевшегося кольца ассоциаций,
выдержанных в духе философствующего Хлестакова. («Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные ею многодетные мужчины, и ворованная ими...» и так далее, пока
снова не появятся, уже ворованные, бриллианты миссис.) Прокручивают ли это организаторы
лотереи, или перед ними, так сказать, ее самовыражение, или что-то еще — опять-таки
неясно (придумывай
сам, как хочешь, или не думай вообще), и снова это неважно, потому что, по сути,
ничего не меняет в восприятии эпизода.
Если убрать из «Скупщика краденого»
то, что обязано безоглядной игре ассоциаций, заполонившей два просмотренных эпизода,
то остается еще смутное, но несомненное ощущение какого-то завораживающего страха
перед миром темным, подлым, гибельным, но живучим в своей разрушительной силе
и презрении к любым запретам. Омерзение поэта к этому миру неподдельно и
порой прорывается взвинченными выкриками
(«Ты опаснее, чем вор, скупщик
краденого!»; «Скушай, гадина!»). Но, чураясь
и отвращаясь, он вместе с тем точно не может оторваться от того, что здесь
совершается: то как бы опьяняет себя гибельным ароматом воображаемых сцен («Дочь твоя... молода, худа
и сжата, плоскозада, как лопата,.. закопает вечерком
с корешами вчетвером!»),то шарахается в нарочито развязный раешник («блюминг
вынести — раз плюнуть! Но кому пристроишь блюминг?»), но так или иначе продолжает
вглядываться в то, что, при его обостренной чувствительности, должно быть
особенно невыносимым...
Вот еще
в лотерее промелькнуло кожаное
манто
170
(«№ 48»), на котором
«хлоркой сведено пятно». Да мало ли откуда
такое могло появиться?! Но сама многозначительная и допускающая любые жуткие истолкования неопределенность, видимо,
так задевает поэта, что сразу после розыгрыша
лотереи он растравляет в себе жгучий след этого ощущения: «горит... хлоркой смытое пятно. Кто кожаночку купил? (Не
скрыть крапинку)»... Но разбираться
в этом, пожалуй, лучше на другом примере.
«Он прет на тебя,
великолепен... Лупи! Ну, а ежели не влепишь — нелепо перезаряжать!.. Уже между вами десять метров. Но
кровь твоя четко весела». Он — это кабан («Кабанья охота» — « Взгляд »). На этот раз
ощущение возможной гибели (здесь — собственной) и азарт приближения к ней — уже
непосредственная пружина действия. Захватывающая мысль: а что, если не мы на
кабанов, а они — и вполне успешно! — охотились бы на меня? И вот в лад этому
парадоксу стремительно выстраиваются смачные ассоциации, размашисто живописуя
ошеломляющую ситуацию. Думаю, что на двух ближайших эпизодах не стоит
задерживаться подробно.
В первом из них
представлены с отменным знанием дела аксессуары парадного застолья, за
которым кабаны (ну и, конечно, кабарышни, кабабушки и т, п.) готовятся приступить к
«литургии» над телом аппетитно убранного охотника. Во втором — различные салаты
и закуски сопоставляются с предметами материальной культуры и произведениями
искусства разных эпох («...селедка,нарезанная как клавиатура перламутрового
клавесина.,. Вкусно порубать Расина!»}.
Но вот здравица
«усопшего стрелка» на этом жутком пиру:
Я пью за страшенную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никогда...
За неуловимое
Искусство.
Но пью за отметины
дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.
Неужели здесь и
Искусство — такая же смертельная охота и уловить его — значит добить, а если нет (если только «отметины
дробин»), то оно вправе и, быть может, даже обязано мстить (и тоже — добивать)?
Да. И Блок в стихотворении,
обращенном к Музе, писал: «Я хотел,
чтоб мы были врагами», и даже, что это
171
 «горькая страсть»,
где «была роковая отрада в попираньи заветных святынь». Но — страсть же... И за
этими бесстрашными
признаниями всегда стояло то, во имя чего все это: «хочу... все сущее увековечить,
безличное — вочело-вечить,
несбывшееся—воплотить!» Здесь, видимо, и источник
готовности, даже необходимости все принимать на себя: «За мученья, за гибель — я знаю — все равно: принимаю тебя!»
«горькая страсть»,
где «была роковая отрада в попираньи заветных святынь». Но — страсть же... И за
этими бесстрашными
признаниями всегда стояло то, во имя чего все это: «хочу... все сущее увековечить,
безличное — вочело-вечить,
несбывшееся—воплотить!» Здесь, видимо, и источник
готовности, даже необходимости все принимать на себя: «За мученья, за гибель — я знаю — все равно: принимаю тебя!»
И Пастернак в зрелые
годы «Второго рождения» признавался, «что строчки с кровью — убивают», а несколько
раньше даже просил своего «осторожного охотника»: «Не добирай меня
сотым до сотни... Целься, все кончено! Бей меня в лет». Но ведь и в этом прежде
всего ощущалась готовность к расплате за право на полет («Дай мне подняться над смертью
позорной»). И для всех великих призвание было высшим, не терпящим никакой
распущенности началом. А чтобы так бесшабашно, как бы на равных — кто кого, да еще —
добивать?! Что-то не припомню такого в русской поэзии...
Действительно —
страшенная свобода... Вспышка убийственного попадания, оплачиваемая желанным гибельным риском. Что
же тогда принимать поэту как свое необходимое достояние? И не упадет ли тень от
такой смертельной
игры — притягательной и взвинчивающей одновременно — и на другие его устремления?
Может быть,
правила той же игры вызвали к жизни и следующую строфу?
А ты кто? Я тебя/дитя, не знаю. Ты обозналась. Ты вина чужая! Молчит она. Она
не ест, не пьет. Лишь на губах поблескивает лед.
(Ведь если «усопший стрелок» ее не знает,
то, значит, она здесь по ошибке и ее право или обязанность мстить в этом потустороннем мире
может быть осуществлено лишь там, где отыщется настоящий «виновник»: тот, кто некогда
— удачно
или неудачно — пытался ее уловить или добить.) Но неужели и в следующей строфе то же?
А это кто? Ты?! Ты ж меня любила... Я пью, чтоб в тебе хватило силы взять ножик в
чудовищных гостях, Простят убийство — промах не простят.
По-моему, это невыносимо
даже отчетливо себе представить. Тем более — написать. Да еще не упустив случая
172
по-своему переиначить циничную
сентенцию главного наполеоновского жандарма — Фуше («Это больше, чем преступление,— это
ошибка»). Что же это за всепобеждающий азарт, влекущий столь ранимого поэта
к тому, что больнее всего — и так безудержно и бесчувственно? Но тут, перебивая друг друга, заговорили критики.
—
Эпатаж! Надругательство над законами и традиция
ми
русского языка и стиха! Попытка возродить давно от
вергнутые
советской поэзией настроения и построения
всевозможных декадентов и
формалистов. Претенциоз
ные невнятности хулиганствующего
неврастеника.
—
Позвольте! А я-то считала, что в нашей критике из
жито
наклеивание уничтожающих ярлыков. Как можно
судить о
таком сложном явлении, как поэзия Вознесенско
го, выхватывая отдельные
слова или строки?! Его образ
ность подчас озадачивает, ассоциативные
связи далеко не
ясны; но и безудержная гиперболизация,
и фантасмаго
рический гротеск, и нарочитая резкость
чаще всего явля
ют своеобразную защиту поэта —
реакцию его гипертро
фированной чувствительности на
малейшую угрозу до
стоинству личности. Так потрудитесь же
освоить язык
поэта! И тогда перед вами откроется
динамичный мир
дерзких поисков мысли и напряженных
эмоций современ
ного человека; мир, герой которого
рыцарски предан сия
нию высокой женственности и яростно противостоит лю
бым проявлениям антигуманизма и
соблазнам обезличи
вающей машинизации.
— Как бы не так! Боюсь, что в данном случае вас слиш
ком увлекло освоение языка поэта и, фактически, вы до
вольствуетесь приобретенным навыком перевода
его не
столь уж замысловатых ребусов на обычный язык, пола
гая, что восхищаетесь их непосредственным
содержанием.
Разумеется, ваше желание как-то
осадить воинствующих
ревнителей чистоты
русского стихосложения понятно
всем, кому дороги поиски нового в
поэзии. Только верна
ли ваша картина?
Разве новое и
неожиданное является когда-либо Вознесенскому как зерно открытия, выстраданного
в поисках правды
воссоздаваемого им мира? Скорее оно предстает как бы победным призом, к
обладанию которым стремится
азартный и вместе с тем расчетливый игрок. Потому что при всей необузданности фантазии поэта никогда не замечаешь, что он
целиком отдается полнокровному и непосредственному
переживанию. И не потому ли он то и
173


 дело использует
знакомые интонации и словосочетания, напоминает и о Цветаевой, и о бродячей
остроте, даже имитирует или пародирует прославленные строфы; не потому ли — что,
лишенный иной опоры, он конструирует необязательное и лишь умозрительно
цементируемое целое из деталей, уже доказавших свою добротность,— в надежде,
что экспрессия и воображение сами по себе обеспечат победный приход неожиданных
открытий. И ничего не скажешь — сопоставления порой ошеломляющи, образы
пронзительны. Но чувство, которое непосредственно не пережито, невозможно ни
сконструировать, ни имитировать по известным образцам, И пустота в главном
неизбежно изобличает себя и недостоверностью деталей, и расплывчатостью или
беспомощной декларативностью в решающих местах...
дело использует
знакомые интонации и словосочетания, напоминает и о Цветаевой, и о бродячей
остроте, даже имитирует или пародирует прославленные строфы; не потому ли — что,
лишенный иной опоры, он конструирует необязательное и лишь умозрительно
цементируемое целое из деталей, уже доказавших свою добротность,— в надежде,
что экспрессия и воображение сами по себе обеспечат победный приход неожиданных
открытий. И ничего не скажешь — сопоставления порой ошеломляющи, образы
пронзительны. Но чувство, которое непосредственно не пережито, невозможно ни
сконструировать, ни имитировать по известным образцам, И пустота в главном
неизбежно изобличает себя и недостоверностью деталей, и расплывчатостью или
беспомощной декларативностью в решающих местах...
Пора, однако, прервать эту невольно затянувшуюся полемику,
Три только что
прозвучавшие и несовместимые оценки, по-моему, отражают (правда, в известном сгущении, а значит, и утрированно) некоторые утверждения и
интонации тех бурных споров,
которые возникали вокруг сборников
Вознесенского, начиная с «Треугольной груши» (1962). Конечно, эти разногласия отчасти обусловлены и круговоротом соперничающих течений общего потока
текущей публицистики.
Так, для нашего
ревнителя чистоты, как и для его друзей, любые отклонения от уклада
стихосложения, установившегося к середине 30-х годов, представляются посягательством на
славные традиции советской поэзии, опасным рецидивом тлетворных, влияний Запада,
и очевидные вольности Вознесенского представляют здесь достаточно поводов для
обличения. Можно полагать, что и благожелательная критикесса, которая чутко
подхватывает веяния прогресса, благотворные для развития личности, и заботливо предупреждает
о возможных опасностях, пришла к своей высокой оценке, в какой-то мере желая поддержать поиск новых и более современных
поэтических средств выражения
действительности.
Думается, однако,
что страстность происходивших споров была вызвана не только различиями в критериях оценки. Вот,
скажем, третий участник
диалога — про-
174
ницательный интеллектуал, темпераментно
объясняющий поэзии, как ей правильнее всего, с учетом быстро изменяющихся условий,
отстаивать достоинство человека и все те же вечные ценности культуры,., Разве
неудивительно, что этот неизменный оппонент ревнителя, прозрачно намекающий на
приверженность своего коллеги к обветшалым концепциям и догмам и получающий в
ответ недвусмысленные обвинения в абстрактном гуманизме или еще похлестче... нет,
все-таки знаменательно, что он проявил, в сущности, не меньший скептицизм при оценке
вклада Вознесенского
в поэзию — пусть совершенно по иным мотивам.-Видимо, вызов, брошенный поэтом,
затрагивает какие-то глубинные основы искусства.
Эта мысль, вернее,
стремление до конца в ней разобраться, собственно, и дала жизнь тому, что вы
сейчас читаете.
Когда споры о поэте, долго не затихая, достигают большого накала, то, по-моему,
за ними обязательно стоит и общественно значимая проблема искусства. Подход к этой намечающейся
проблеме является основной темой данной статьи, что подчеркнуто заголовком.
Разумеется, можно было бы, наметив некоторые
связи, сразу
начать вольный разговор о всевозрастающем значении ассоциативного мышления в условиях
научно-технической революции, а обращаясь к примерам в области искусства, даже не упоминать
Вознесенского. Но общие выводы здесь
явно преждевременны, проблема только обозначается, так что естественнее всего
довериться тому, как тема сама заявляет о себе, когда, углубляясь в поэтику стихов, не укладывающихся в привычные рамки, стараешься осмыслить то, чем они нас все-таки задевают,
а значит, и суть того, откуда
проистекает их жизнеспособность. Поэтому,
не торопясь предвосхитить результат и полагая, что в работе литературной, в отличие от научной, интересны не столько
выводы, сколько ведущий к ним путь, попробую как
можно непринужденнее воспроизвести путь собственных размышлений, когда, несколько ошарашенный непосредственным впечатлением от стихов
Вознесенского { о чем
свидетельствуют здесь первые страницы), я стал прислушиваться к тому,
как их оценивают. Правда, подход
благожелательной критикессы ' дейст-
1 Хотелось бы избежать попыток
разъяснить, на кого намекает здесь автор. Прозаик без колебаний отображает типические
явления жизни,
отталкиваясь от реальных людей и событий, и йспрос о существо-
175
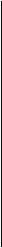 вительно напоминает
комментируемый перевод, и это невольно переключает внимание с оригинала на соображения «по поводу».
Можно, например, рассматривать и пир в «Кабаньей охоте» как своеобразное отмщение природы людям, с
бессмысленной жестокостью посягающим на ее гармонию, и в этом духе
интерпретировать образы стихотворения. И хотя такое истолкование достаточно субъективно,
оно вовсе не лишено смысла и позволит критикессе блеснуть и своим даром
публициста, углубляясь в актуальную проблему, и своей эрудицией литературоведа,
демонстрируя, как виртуозно автор расценивает такой гротеск. Беда только в том,
что все, чем могли нас задеть сами стихи, остается при этом как бы в стороне,
затуманенное окололитературными ассоциациями, на языке которых выполнен перевод, и
вопрос о его правильности
вообще не возникает.
вительно напоминает
комментируемый перевод, и это невольно переключает внимание с оригинала на соображения «по поводу».
Можно, например, рассматривать и пир в «Кабаньей охоте» как своеобразное отмщение природы людям, с
бессмысленной жестокостью посягающим на ее гармонию, и в этом духе
интерпретировать образы стихотворения. И хотя такое истолкование достаточно субъективно,
оно вовсе не лишено смысла и позволит критикессе блеснуть и своим даром
публициста, углубляясь в актуальную проблему, и своей эрудицией литературоведа,
демонстрируя, как виртуозно автор расценивает такой гротеск. Беда только в том,
что все, чем могли нас задеть сами стихи, остается при этом как бы в стороне,
затуманенное окололитературными ассоциациями, на языке которых выполнен перевод, и
вопрос о его правильности
вообще не возникает.
Обличения ревнителя
чистоты и сарказмы проницательного интеллектуала более конкретны, и их легче
подкрепить доказательствами.
Претензии ревнителя к
стилю и манере Вознесенского выражаться легко подтвердить примерами и из сборник^
«Взгляд». В той же «Кабаньей охоте» слово «блюдо» отнесено без ощутимой
надобности к женскому роду («на блюде ледяной, саксонской»); в кульминационной строфе здравицы
охотника выбрана, пожалуй, самая неестественная и труднопроизносимая
конструкция фразы («пью, чтоб
в тебе хватило силы» вместо «чтобы тебе» или
«у тебя» хватило); а выражение «следя судьбу» в прозаическом куске, предваряющем поэму «Авось!», которое при беглом чтении скорее всего покоробит
очевидным отклонением от нормы,
дотошливого читателя может и
озадачить: то ли автор подстраивается к слогу современников своего героя, то ли, наоборот,
активизирует, второе, сравнительно
недавнее значение глагола «сле-
 вании прототипа у его
героя если и имеет значение для творческой биографии автора, то вполне безразличен при
анализе его произведений. Подобно этому и критик, говоря о характерных проявлениях
современной
общественной мысли, по-моему, имеет право прибегать к олицетворению — важно
лишь, чтобы не искажалось действительное положение вещей. Пользуясь таким
олицетворением, я, разумеется, отталкивался от реальных публикаций о Вознесенском,
но определенно не ставил себе задачи представить анонимно чей-либо творческий портрет. В частности, обдумывая
свою критикессу, я прежде всего обращался к образу незабвенной гоголевской дамы, приятной
во всех отношениях, и, надеюсь, никто не сочтет, что этим как-то задето достоинство моих
собратьев-женщин по профессии.
вании прототипа у его
героя если и имеет значение для творческой биографии автора, то вполне безразличен при
анализе его произведений. Подобно этому и критик, говоря о характерных проявлениях
современной
общественной мысли, по-моему, имеет право прибегать к олицетворению — важно
лишь, чтобы не искажалось действительное положение вещей. Пользуясь таким
олицетворением, я, разумеется, отталкивался от реальных публикаций о Вознесенском,
но определенно не ставил себе задачи представить анонимно чей-либо творческий портрет. В частности, обдумывая
свою критикессу, я прежде всего обращался к образу незабвенной гоголевской дамы, приятной
во всех отношениях, и, надеюсь, никто не сочтет, что этим как-то задето достоинство моих
собратьев-женщин по профессии.
дить»(и таким образом указывает на свой след в посмертной судьбе героя).
Если перейти от грамматики
к интонациям и лексике. то мест, могущих озадачить или даже шокировать читателя, становится
слишком много, и, чтобы не тратить
время на их перечисление, ограничусь картинным
двустишием из «Исповеди», открывающей сборник:
Сказала: «Будь смел»— не вылазил из спален.
Сказала: «Будь первым»—я стал гениален...
Общий же настрой подобных задиристых,
а то и забористых речений проступает и в немногих выдержках, приведенных из
«Скупщика краденого». В частности, описание дочери скупщика (оно процитировано
неполностью) выдает и известное пристрастие поэта фиксировать те проявления нашего
естества и относящиеся к ним подробности тела и быта, которые в современном
обществе принято
скрывать от постороннего взгляда, начиная с раннего детства; пристрастие,
которое часто сквозит в непристойных остротах мужчин, а уязвленных подростков побуждает
к навязчивому подглядыванию и развязной браваде; которое неоднократно ставили в укор и
Вознесенскому и которое довольно широко представлено в его последних стихах.
Не менее убедительны
указания интеллектуала на систематическое использование поэтом хорошо известных литературных
мотивов. Это и ассоциации-цитаты вроде промелькнувшей в «Скупщике...», и
полемическое пе-реипачивание традиционных сюжетов или хрестоматийно знаменитых стихов
(скажем, молитва богоматери в поэме «Авось!» или парафраз финала лермонтовского
«На смерть
поэта» в финале поэмы «Лед-69»: «Увы, надменные подонки. Вы, жалкою толпой
обслуживающие патронов, свободы, гения и славы палачи»); и просто вариации полюбившихся строк и
мелодий. Стали появляться и повторные вариации. Так, после стихотворения «Нас много. Нас
может быть четверо»— вариации на дастернаковскую тему («Нас мало. Нас может быть трое»)— та же тема
прозвучала и во вступлении к поэме «Авось!» («Нас мало, нас адски мало»).
Лейтмотив уже упомянутой «Исповеди» — строка «Ну что тебе надо еще от меня?» —
представляет вольный перевод строки «Мет ЫеЬсЬеп, тлгаз -^Шз! <1и теЬг», которая
проходит лейт-
177
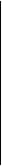 мотивом по
знаменитому гейневскому стихотворению «Си Ьаз( О1атап1:еп ипй Рег1еп». От той же
строки оттолкнулся и Пастернак в одном из стихотворений цикла «Песни в письмах,
чтобы не скучала». Он вынес ее в заголовок (по-немецки, обозначив тем самым источник,
правда, не
совсем точно) и, напомнив об оригинале еще одной строкою («Что тебе еще угодно?»), создал импрессионистский набросок дачного быта погрустневшего
мечтателя. Вознесенский разрабатывает тему Гейне непосредственно (сравните «На всех континентах твои имена
прославил» с пересказом гейневских
строк «Твоим прекрасным глазам я
посвятил целое войско вечных несен»), как
мы видели, в духе современного экспрессивного диалога, притом в двух
вариантах: с очевидными поправками на
лексику и настрой начала XIX века та же ситуация воспроизведена и в
молитве Резанова богоматери из поэмы «Авось!».
мотивом по
знаменитому гейневскому стихотворению «Си Ьаз( О1атап1:еп ипй Рег1еп». От той же
строки оттолкнулся и Пастернак в одном из стихотворений цикла «Песни в письмах,
чтобы не скучала». Он вынес ее в заголовок (по-немецки, обозначив тем самым источник,
правда, не
совсем точно) и, напомнив об оригинале еще одной строкою («Что тебе еще угодно?»), создал импрессионистский набросок дачного быта погрустневшего
мечтателя. Вознесенский разрабатывает тему Гейне непосредственно (сравните «На всех континентах твои имена
прославил» с пересказом гейневских
строк «Твоим прекрасным глазам я
посвятил целое войско вечных несен»), как
мы видели, в духе современного экспрессивного диалога, притом в двух
вариантах: с очевидными поправками на
лексику и настрой начала XIX века та же ситуация воспроизведена и в
молитве Резанова богоматери из поэмы «Авось!».
Но что, собственно,
доказывают эти свидетельства? Если поэт, нарушая принятые в литературе нормы
языка и
стиля, прибегает к вызывающим интонациям или просторечным, жаргонным и
даже вульгарным выражениям, то из этого вовсе не следует, что он скандализует общество, чтобы привлечь к
себе внимание, и должен быть осужден как разрушитель культуры. В свое время
другие ревнители чистоты сходным образом осуждали Маяковского, и, как установила
история, совершенно несостоятельно. Вероятно, приводимые примеры служат в таких
случаях не
выяснению сути дела, а лишь подкрепляют уже готовые выводы, продиктованные
непосредственным эмоциональным восприятием. Между тем мы видели, что на языке противоположно
окрашенных эмоций те же особенности
можно истолковать совсем по-другому,
В равной мере
способность и потребность поэта переварить чрезвычайно разнородный литературный
материал вовсе не дают оснований для вывода о его собственной пустоте (если только
его облик достаточно своеобразен, чего у Вознесенского как будто никто не
отрицает). Скорее этот вывод интеллектуала подстраивается к непосредственному и тоже
эмоционально окрашенному («не верю!»} ощущению сконструированности, делан-ноети поэзии
Вознесенского и, фактически, в первую очередь указывает на то, что система
высказываний поэта эмоционально несовместима с представлениями критика о правде искусства.
178
Нет. Я не думаю,
что эмоции противопоказаны критику, и сам не смог бы писать, отстраняясь от них. Но именно потому,
что в искусстве вряд ли возможны и скорее всего не нужны бесспорные
доказательства, размышляя о нем, мне хочется больше обсуждать, чем утверждать.
Особенно если то, о чем размышляешь, спорно или необычно.
И вот перед нами
действительно необычные стихи хотя бы потому, что так разноречивы толки о них. И ведь
при всей разноголосице мнений нас задевает и вызывает споры, в сущности,
все то же: ощущение нарочитости или вызова (объясним ли мы его как
ревнитель — эпатажем; как дама-критик — экспрессивной реакцией чуткой натуры на
сложность мира или как интеллектуал — конструированием целого из элементов,
лишенных внутреннего единства), острая современность (кликушество неврастеника;
тревога перед угрозой обезличивания в век машин; имитация этих настроений по
имеющимся литературным образцам) и внетрадиционность (декадентская невнятица; смелое
новаторство; формальные поиски, маскирующие внутреннюю пустоту).
Так, может, не
доверять подсказке привычных представлений о поэзии, подкрепляя первое
впечатление подходящими примерами; не торопиться с ответом: он таков — логому-то! А
пока спросить себя: он такой почему? Откуда это все берется?
Откуда же такое могло появиться? И как выполнять
наметившуюся программу?.. Обратиться
к личной судьбе поэта? Но разве не бессовестно вдаваться за пределы того, что он сам сообщает о себе
обществу. Разбираться во влияниях
общественной жизни на поэзию? Уж слишком расплывчатая тема для разговора, если для него не подготовлена конкретная почва. Конечно, заманчиво:
ведь мало что увлекает так сильно,
как вопрос о том, куда ведет нас
дух времени и в чем он, собственно, состоит; и мало кто при случае не вызовется судить об этом, даже
не считая себя беспристрастным. И
вместе с тем до того зыбко... А почва? Что ж. Если создает стихи прежде всего
личность, а без нее вообще нет поэзии (какими бы похожими параметрами
ни обладало то, что на нее претендует);
если существуют стихи благодаря тому, что чем-то
179
нужны своему обществу и времени (или
как чудо предвосхищают эту нужду и тогда ждут своего часа, чтобы по-настоящему расцвесть),
то возникают они, рождаются они все-таки только потому, что вокруг уже
цветут какие-то другие стихи — и это и есть та почва, на которой непосредственно
произрастает поэзия. Эта почва, конечно, слишком неоднородна, чтобы рассчитывать на
беспристрастное
суждение о ней, но во всяком случае она вполне конкретна.
Применительно к
Вознесенскому нас будут, естественно, интересовать не прямые заимствования —
эти как
бы пронизывающие поэтическую почву соки, которые каждое самобытное растение использует
и перерабатывает по-своему, а та (если развивать сравнение) основная почвенная
структура, усваивая которую и формируется поэт. В рассматриваемом смысле поэт
родился в середине 50-х годов, и действительно в первых двух его книгах («Мозаике» и
«Параболе») немало следов активного усвоения поэтической структуры тех лет
(например, в посвященной С. Щипачеву «Осени»).
Однако еще тогда
прорывалось стихийное стремление преодолеть, даже взорвать усваиваемую
структуру. Достаточно
вспомнить о сразу выдвинувших поэта «Мастерах» (1959),
которые не только
пронизаны мотивами бунта против
косности и спеси властителей Руси, но и провозглашают право на него
неотторжимым от самой природы искусства
(«Художник первородный — всегда три* бун.
В нем дух переворота и вечно — бунт»). Или об отповеди тем, кто «меня пугают
формализмом»,— наивной попытке защитить
эту стихийную потребность
в рамках сложившейся поэтической структуры.
И в следующей книге—«Треугольная груша»—все уже безоговорочно
подчинено этой стихии. Компромисс " оказался невозможным, и, раскрепощаясь в
свободном поиске,
поэт как бы подвел черту под порой ученичества, не включив в новую книгу ничего
из прежних (второй раз он поступит так только через десять лет — во «Взгляде»),
Что же
он искал? От чего отталкивался? Сам Вознесенский придает в этой связи большое
значейие («считаю первым «моим» стихотворением») «Гойе» (1959), помещая его во всех сборниках
с вкраплениями ранних стихов. Полагаю, с полным основанием.
Это трижды (в начале, середине и конце)
повторенное «Я—Гойя!», несколько сходно звучащих коротких
180
строк («Я — горе, ...голос, ...голод,
...горло, ...грозди, ...гвозди») и перемежающиеся с ними длинные строки,
которые в мерном ритме медленных ударов колокола разрабатывают и варьируют этот
звуковой ряд (вот примерное сочетание: «Я — голос. Войны, городов головни на снегу сорок первого
года») и ассоциативно связаны с картинами минувшей войны, а возможно, и с офортами
Гойи «Ужасы войны».
Очевидно, что подобный
поиск не имеет отношения ни к тенденциям стихов середины 50-х годов, ни к традициям, которые они унаследовали (при всей
значительности изменений, принесенных
войною и послевоенным обновлением) от поэзии 30-х годов. Но тому, кто хотя бы поверхностно знаком с историей становления новой
русской поэзии, не менее очевидно, что такие поиски непосредственно связаны с пафосом открытий и в нашем
стихосложении. И я действительно
думаю, что Вознесенский, впитывая современную ему поэзию, был.однако, непосредственно воспитан не ею, а теми поисками начала
века, которые оказались ему
внутренне близки, и воспринимал прежде всего эту глубинную подпочву всей
нынешней поэзии, стремясь ее осовременить.
Кризис назревал по
мере того, как стала быстро расти бессодержательная условность поэтического
языка. За пределами обособленного мира традиционно-поэтического все это легко
вырождалось в штампы или риторику (грустным примером может служить несомненно
яркое дарование Надсона, которое нам трудно оценить по достоинству из-за
обилия обесценившихся словосочетаний) и оказалось несостоятельным перед напором
новых звучаний
и настроений, уже бродивших в обществе и властно требовавших воплощения.
Выхода искали на
разных путях, но здесь нас интересуют те, которые связаны с выразительностью
звучания слова
как такового. Ведь и «Гойя» Вознесенского примечателен именно своим звуковым строем.
И неудивительно, что
зачинатели нового подхода, намного раздвинувшего область допустимых вольностей поэзии и глубоко
повлиявшего на ее развитие, были встречены, мягко говоря, иронически. Особенно
первооткрыватель Велимир Хлебников. Его «Зверинец» и «Заклятие смехом», созданные,
видимо, на рубеже 1908—1909 годов, очутились после публикации в центре
ожесточенной полемики. Поэтому хочется, не вдаваясь в историю проис-
ходивших споров, коснуться
бесхитростной и открытой всем сути того дара, с которым связано в поэзии имя Хлебникова. Вряд
ли Маяковский просто под впечатлением безвременной смерти соратника
охарактеризовал его как «Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и
возделываемых нами» и признал его «от своего имени и, не сомневаюсь, от
имени моих друзей»... (в числе их были Асеев и Пастернак) «одним из наших поэтических
учителей».
Прежде всего,
отсутствие определенного рационального смысла вовсе не означает бессмыслицы,
Природа, еще задолго до человека, была насыщена содержательной, высокоорганизованной
целесообразно развитой жизнью, исполненной смысла. Да и сами мы, дети природы, в ранние годы
великолепно общаемся и взаимодействуем с нею, набираемся опыта, даже не ведая о
разумном мышлении. Скажем, в пенье птиц нас полностью удовлетворяет и радует его, если
можно так выразиться, «доразумный» смысл и не особенно смущает (разве что
ученых) отсутствие сведений о том, что означало бы оно на языке точного знания. Нас
трогает и музыка, лишенная слов, и мы способны воспринимать ее, не нуждаясь в
словах, охваченные тем, что она властно нам сообщает. Слова, быть может, и нужны
специалистам, чтобы понять или объяснить, как это сделано, или подготовить человека
с неразвитым восприятием музыки к ее становящемуся все более условным
полифоническому языку, Но тогда это только бледная тень того, чем она нас способна
захватить.
С речью дело как
будто обстоит иначе. Ее словам соответствуют понятия — основа разумного
мышления, и ясно, что она служит именно для передачи конкретного смысла сообщения.
Но не стоит забывать, что каждое слово сперва все-таки звучит и лишь потом
что-то означает. И с «доразумным» смыслом'его звучания для нас, видимо, связано нечто
трепетно драгоценное, Не потому ли так дороги нам самые звуки родной речи — даже
если мы превосходно умеем передать ее смысл словами другого языка. И поэзия,
собственно, и вырастает на стыке разумного
и «доразумного» смысла,
и именно потому,
 1 Как видно из
сказанного, «доразумный» смысл не противопоставляется здесь разуму, а относится к
такому осмыслению мира, идущему от непосредственного и целостного восприятия, которое не
укладывается а логику рационального мышления, но предшествует зрелому сознанию и является его
необходимым элементом.
1 Как видно из
сказанного, «доразумный» смысл не противопоставляется здесь разуму, а относится к
такому осмыслению мира, идущему от непосредственного и целостного восприятия, которое не
укладывается а логику рационального мышления, но предшествует зрелому сознанию и является его
необходимым элементом.
182
что важны они оба, оказывается необходимою и
она. И
основоположники русской поэзии, должно быть, ощущая необходимость защитить ее
от наскоков здравого смысла, недаром предупредили нас об этом (Пушкин: «А поэзия, прости
господи, должна быть глуповата»; Лермонтов: «Есть речи — значенье темно иль
ничтожно, но
им без волненья внимать невозможно»).
Но, хотя почти для
всех поэтов звуковая стихия имела первостепенное значение, она все же
оставалась лишь камертоном, настраиваясь на который, велся интуитивный поиск слов,
подкрепляющих при осмысливании образов опорную гармонию ритма1.
Хлебников же отважился углубиться в самые истоки возникновения слов и их смысла. Он как бы
открывал и развивал смысл, рождающийся из гармонии звука.
Как открывало его все
человечество в ту пору, когда и образ, и звук, и смысл были с недосягаемой для нас непосредственностью
еще слиты воедино в первичном восприятии мира. Как открывает его каждый из нас в ту
пору первого лепета и осмысливания жизни, когда с тою же слитностью
восприятия мы еще по-настоящему не отделяем себя от окружающего и, познавая мир, в
чем-то его и творим, потому что тем самым формируем и себя; и когда и
словотворчество столь же естественно, как неуемная непоседливость, потому что также
направлено на уяснение мира и одновременно на утверждение себя во всем. И хотя со
временем мы привыкаем расчленять отдельные элементы восприятия (звук, смысл,
зрительный образ), что позволяет намного вернее достигать своих целей, и почти
начисто забываем об этой удивительной поре утраченной цельности, ее зов, пусть неведомо
для нас самих,
все же редко остается безответным, потому что именно тогда было заложено то,
что мы из себя представляем.
Так вот,
похоже, что Хлебников на всю жизнь и в по-
 1 Удивительно интересно
описание Маяковского: «...ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее
гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова.
1 Удивительно интересно
описание Маяковского: «...ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее
гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова.
...Первым чаще всего
выявляется главное слово ...характеризующее смысл стиха или ...подлежащее
рифмовке... Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня это
всякое повторение во мне авука, шума, покачивания или даже... каждого
явления, которое я выделяю звуком». Примечательно, что ритм ощущается здесь
скорее не гармонизирующим началом, а неким динамичным и совсем не музыкальным гулом, что характерно
именно для поэтики Маяковского, опирающейся на речевую интонацию, а не на музыку строк.
183
лнои мере сохранил эту первичную слитность
восприятия звука и смысла и благодаря этому освободил поэзию от подчиненности
ритму. То есть чаще всего определенный ритм в стихах поэта присутствовал, но он
может свободно
изменяться и вообще не обязателен, поскольку и без того движение стихов всегда
сливается с первичной звуковой гармонией слова и уже по одному этому всегда музыкально. (Например,
«Зверинец», где нет ни рифм, ни определенного метра, по всем формальным признакам несомненная проза, но
в силу одной гармонии звучания с полным правом отнесен к поэмам.} Смысл сказанного при этом может быть
разумным, а бывает частично и «доразумным», когда число новообразованных слов намного
больше того, при котором возможно их четкое истолкование; но неизменно смысл
вырастал и направлялся музыкой звучащего слова, которая придавала такую первичную образность
речи, что поэт легко обходился без обычных метафор и сравнений поэтического языка (вернее, они как бы
полностью сливаются с музыкой речи как со своей материнской средой).
Более того, звук у
Хлебникова во многом предопределяет смысл и, к сожалению, иногда и в тех
случаях, когда это приводит к зауми, то есть когда ощущение связи в созвучиях слов
переносят на реальные области нашего бытия, устанавливая там абсурдные
смысловые соотношения. Например, следующие строки о соотношении звуков «эр» и «эль»,
по-моему, замечательно звучат и содержательно отражают существующие в речи «до-разумные» связи. «Эр луга заменит руганью,
латы — ратью... не лазить будет, а разить!..
Эль строит морю мора мол, а смерти
смелые мели». (В поэме «Зангези» одна эта тема занимает больше страницы текста.) Но ведь для Хлебникова такие связи (как и соотношения в
ощущаемой им гармонии чисел} как-то
предопределяют и события истории, и
он об этом по-детски серьезно пишет.
Я хочу привести здесь
хотя бы два коротких отрывка. Заменять или дополнять их каким бы то ни было объясняющим комментарием
было бы почти равнозначно попытке дать представление о музыке на языке
абстрактных понятий.
Сперва — из
«Зангези», названной по имени ее героя, пророка, проповедующего в горах о звуковых
связях и их проекции на историю.
Ему внимают ученики,
его
184
высмеивает толпа; только что улетели
боги, испуганные поднятым шумом.
«Зангези: Они голубой
тихославль, они голубой окопад. Они в никогда улетавль, их крылья шумят невпопад.
Летуры летят в собеса толпою ночей иэчезаев. Потоком крылатой этоты
Потопом
небесной нетоты Летели незурные стоны,
Свое позабывшие имя, Лелеять его нехотяи. Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес
иногдава, Нетава,
земного нетава! Летоты, летоты инее!»
А вот из эпизода
«Бой» (до него был «Путь», а дальше пойдут «Дележ добычи», «Тризна»...) в поэме «Разин», все строки которой одинаково звучат в обоих
направлениях. Если станете проверять
— увидите, что симметрия почти везде
точна. Но пока все-таки просто вслушайтесь.
Топот
И
Шорох хорош,
Гор рог;
Ищи равоты, товарищи!
А вод вдова
Чар прач
Течет,
Алым мыла
Несет в тесен
Узел слезу.
 Воз вод и вдов зов
Воз вод и вдов зов
Течет'
Так, кат.
На первый взгляд все
это лишь отдаленно соотносится с поэтикой Вознесенского. Различия действительно
очевидны. Хлебников неизменно и органически музыкален: у Вознесенского
преобладают интонации отрывистой речи с резкими и частыми изменениями
оттенков. Для Хлебникова звучание слова так значимо, что каждая строка обычно оказывается
весомой и автономной в силу одного этого, и он нередко расширяет ее смысл, просто варьируя
складывающийся звуковой ряд и невольно переходя к словотворчеству. Вознесенский вводит
новые слова реже и преднамереннее; и, как ни увлекают его вариации
185
 звука в словах, он
нуждается и в их ассоциативном осмысливании, даже когда звучание полностью
доминирует (как в «Гойе»).
звука в словах, он
нуждается и в их ассоциативном осмысливании, даже когда звучание полностью
доминирует (как в «Гойе»).
И все же связующие нити
существенны. Слова, вводимые по созвучию с уже бытующими в языке, несут у Вознесенского даже
большую нагрузку: появляясь редко, они, естественно, привлекают больше внимания.
Например,
во «Взгляде» словообразование сосердцанье {при осмысливании контекста
оно ближе всего, пожалуй, к состраданью) становится ядром небольшого
стихотворения именно потому, что звучит оно почти так же, как и его сосед по строке — созерцанье,
но оказывается его антагонистом по смыслу. В стихотворении «Романс», где «санитарами души»
выступают «Волки, Ирония и Размена», именно незнакомка Размена сильнее всего
задевает наше воображение — благодаря своим хорошо знакомым однокоренным Измене,
Замене, Обмену, Отмене, Подмене, Размену, которые и вместе и порознь готовы
деятельно
формировать ее смысл.
Есть у Вознесенского и
целые стихи, где преобладает как бы «доразумный» смысл. Правда, поэт создает их скорее как некую игру,
затеваемую вокруг одного-двух заманчиво звучащих словообразований. Таковы
«осенебри» в сборнике «Антимиры» или «поэмима» во «Взгляде», причем характерно, что в
обоих случаях — это песенки, непосредственно подготовленные для спектакля.
Сходную притягательность имеют для него и проявления симметрии в словах. Но если
для Хлебникова достаточно того, что симметрия уже предопределена звучанием,
то Вознесенскому
существенно подчеркнуть особенности звучания графически. Так что со звуком у него,
видимо, связаны и довольно сложные зрительные образы, которые соотносятся со смыслом,
условно говоря, на «доразумном» уровне. Об этом свидетельствует раздел
«Изопы» (изобразительная поэзия) в сборнике «Тень звука» (1970), где напечатанный текст
создает контуры соответствующего зрительного образа; характерны и комментарии
автора. Так
мы узнаем, что изоп: чайка — плавки (белые) бога (невидимого) был тем зерном,
из которого выросло стихотворение «Общий план № 2».
Еще больше
соприкосновенна Хлебникову проза Вознесенского. На ней почти не отражается
порывистость и безудержность речевых интонаций, столь значимая в стихах, и слитность
звучания, все время направляющего
186
смысл, придает ей редкую
раскованность и энергию. (Думаю, что и сомнительное сочетание «следя судьбу» было выбрано прежде всего
по звуку.)
Эта первичная
настроенность на звучание, которое предваряет и развивает смысл, всегда
присуща поэту, хотя и редко проявляется так отчетливо, как в упомянутых выше стихах,
конечно, характерных для него, но скорее из тех, какие пишутся между прочим.
Дело в том, что чаще всего на первый план у Вознесенского выдвигаются достаточно легко
осмысливаемые ассоциативные связи, и наше внимание естественно переключается
на них. На
этой двойственности — на мой взгляд, источнике многих недоразумений
при восприятии стихов поэта — следует остановиться подробнее,
Вот вроде бы
вершинная мысль стихотворения «Строки» («Взгляд»). «Но победит Чело, а не
число». Чело, очевидно, осмысливается здесь как метафорический синоним человеческого
разума, а число несколько туманнее — как символ безликого скопища или бездушной
цифири. Стало
быть, перейдя на язык повседневных понятий, мы приходим к утверждению оптимистической
веры в
способность разума противостоять разрушительной стихии бездуховности, использующей и
достижения техники (в этом же роде можно осмыслить и ряд других строк). Но при такой
интерпретации сразу возникают уже знакомые недоумения.
Оттого, что
поэтическую мысль усваиваешь наподобие разгадывания шарады, она не становится ни
интересней, ни содержательней. Скорее наоборот. Если она воспринята не
непосредственно — когда следуешь за автором путем его переживаний, постепенно
проникаясь еще неведомой целью стихотворения,— то невольно подрывается и наше доверие к ее
весомости вообще. Ведь осознается она вне связи с живыми приметами
пережитого, выскакивая, как чертик из детской игрушки, под нажимом кнопки созвучий. Что же
удивительного, если такая мысль, оторванная от всего, что помогло бы нам ее
почувствовать, представляется плоской или декларативной?
А раз так, то и
многие детали, которые поэт вплетает в ткань стихотворения, представляются нам не
идущими к
делу, недостоверными, побуждая придирчиво искать несоответствия. Тем более что
Вознесенский, следуя за звучанием, не смущается нарушением точности в смысловых соотношениях.
Например, здорово звучит в «Стро-
387
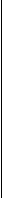 ках»: «Право ли
наводненье во Флоренции, круша палаццо, как орехи грецкие?» Но конечно же
вопрос о правоте наводнения вряд ли уместен даже как риторический (зато строкою выше
стояло: «право ли большинство?»). Да и крушить — не самое подходящее слово,
чтобы описать,
как вода разрушает здания, и к тому же не особенно согласуется с образом
раскалываемых орехов (не крушат же их).
ках»: «Право ли
наводненье во Флоренции, круша палаццо, как орехи грецкие?» Но конечно же
вопрос о правоте наводнения вряд ли уместен даже как риторический (зато строкою выше
стояло: «право ли большинство?»). Да и крушить — не самое подходящее слово,
чтобы описать,
как вода разрушает здания, и к тому же не особенно согласуется с образом
раскалываемых орехов (не крушат же их).
Думаю, что подобная
неудовлетворенность стихами (и, соответственно, такие характеристики, как «деланность»,
«сконструированность целого») коренится в указанной двойственности поэтики
Вознесенского: звук у него зачастую так расставляет собственные акценты, что подходящие по своему
звучанию слова при их ассоциативном осмысливании никак не укладываются в
единый ряд; а мы по привычке стремимся к их однозначному истолкованию.
Ну, а если вообще не
пытаться осмыслить стихотворение как единое целое? Если поэт даже для себя не
уясняет прорезающейся
поэтической мысли до конца и рад, как Хлебников, довериться одному ее звучанию, но,
не нуждаясь
в общей гармонии возникающих при этом словосочетаний, тут же начинает их ассоциативно
осмысливать — применительно к тому настрою, в каком он начал писать? Пусть при этом
и не возникает цельной картины — такая ли уж это беда? Да. Что-то важное, наверное, ускользает; где-то
нас заносит совсем не туда, кое-что ни с чем не согласуется... Зато какой простор
для воображения читателя! То и дело предоставляется случай что-то додумывать
самому; заполнять пробелы, сближать разнородные представления или еще резче ощущать их
противоборство;
или вдруг найти в мозаике автора что-то, быть может, им и не предусмотренное, но
стимулирующее собственный поиск. Мы уже видели, что, включаясь в игру со словами и
созвучиями, Вознесенский отнюдь не заботится о точном смысле и, наслаждаясь
свободой от
любой заданности, как бы приглашает каждого понимать его по-разному.
Попробуем же еще раз
вслушаться в «Строки». Ведь они буквально пронизаны тревожным звучанием — чу! Не будет
преувеличением сказать, что все стихотворение выросло из строки «чую Кучума» и
поэт разрабатывает вариации этого первичного словозвучия, ассоциативно
осмысливая все попутные отпочкования, {Сочетание «че-
ло— число»—одно из таких отпочкований,
не более... но и не менее.) Поэтому, например, бесполезно указывать на слишком
вольное обращение автора с известными фактами, заметив, что Кучум предстает у него
олицетворением бесчеловечного деспотизма. Пусть Кучум памятен нам вовсе не как
жестокий завоеватель, а как последний хан сибирских татар. Пусть Грозный просто не
мог «попрать
Кучумку»— хотя бы потому, что умер (1584) задолго до окончательного
присоединения Сибири и бегства Кучума (1598). Да и Ермак овладел столицей Кучума (1582) без ведома Грозного и лишь
потом известил царя о победе, прося подмоги; к тому же сама эта победа оказалась непрочной — Ермак
вскоре (1585) погиб в засаде, устроенной Кучумом, и тот вернулся в свою Сибирь
(Кашлык). Но все равно — прав поэт, потому что никакое иное имя не могло бы вернее передать
взбудораженности строки, которая скорее всего дала жизнь стихотворению; и
потому, что, судя по всему, он и не собирался здесь придерживаться каких-либо фактов и
даже не воплощал никакого определенного замысла, а просто со всей возможной
непосредственностью
воспроизводил то эмоциональное состояние, которое заставляло его писать.
Почему бы и нам не
разделить его подхода к стихам? Взбудораженность «Строк» неподдельна и
содержательна и, видимо, может быть воспринята читателем со всей непосредственностью
своего возникновения, если... только не устанавливать сперва конкретный смысл
каждой строки и не увязывать его со смыслом предыдущих и последующих. Потому что
первичная эмоциональная природа этих стихов восходит к «доразумному»
звучанию. И лишь благодаря богатым ассоциациям они дают и хороший материал для
размышлений на актуальную тему. Вполне естественно желание разобраться в
возникающих мыслях и как-то соотнести их со словами поэта. Но право же, совсем не обязательно,
обнаружив, что концы не сходятся с концами, приписать это несостоятельности
его поэтики. Ведь наши рассуждения не относятся к тому делу, которым он
непосредственно занят. И по-своему он во всем органичен. И примерно так почти
всегда и действует.
Так, во «Взгляде»
отчетливо прослушиваются и многие другие словозвучия, из которых возникают
стихи: в «Зауральской пляске» это скрымтымным, звуковой эквивалент восприятия пляски
поэтом; в «Доноре дыхания»— строка
189
«рот в рот». Здесь зерно словозвучия
напоминает о себе просто многократным повторением.
Еще чаще автор
формирует стихотворение вокруг чем-то задевшего его словосочетания или слова,
которое повторяется и варьируется (как в «Строках»), давая толчок к разработке ассоциаций.
(Например, «Вслепую», где на слово-зерно указывает уже заголовок, или «белые брюки» в «Жестоком
романсе».) Такое зерно может прорасти стихотворением, и не напоминая о себе повторами,
если само первичное словосочетание осмысливается как зрительный образ, который и
разрабатывается в дальнейшем. (Например, словосочетание-образ «по годы, как и по
ягоды» в стихотворении «Аида, пушкини-аночка» или «Фиалочка с филфака», где образ
выдан уже
первою строкою.)
Зерном стихотворения
бывает (как рассказано в «Изо-пах») и остро воспринятый зрительный образ — без первичного зерна
словозвучия. Так, в стихотворении «Сложи атлас, школярка шалая» воображено Восточное
полушарие,
вложенное (как половина разрезанного мяча) в полушарие Западное, и
ассоциативно разработаны возможные при этом жутковатые совмещения различных
наземных объектов. В сущности, и вся «Кабанья охота» вырастает из образа пира
«наоборот».
Все эти примеры
взяты из «Взгляда» не потому, что отмеченные черты стали характерными для
поэта лишь недавно. Просто за последнее время они предстают отчетливее, чем
раньше, когда их скрадывала постепенно исчезавшая потребность как-то смягчать отход от
традиций. Например, в одном из первых откровенных воплощений подобного образа
—«Балладе-диссертации» («Антимиры», 1964) — автор, увлеченный картиной непрерывно растущих и всюду
проникающих носов, почти апокалип-тически живописует нос, пронизывающий (как
чеки в
булочной) череду этажей жилого дома, и вместе с тем приспособил свою
фантазию к реальному миру, свалив все это на сон приятеля. В «Сложи
атлас...» он просто предупреждает нас, что намерен пошутить, а намекая в конце «Кабаньей
охоты» на ее реальное завершение, он все-таки позволяет читателю отнести и
последний эпизод к миру потустороннему («Очнулся я, видимо, в бессмертьи»).
Не скажу, что к
этому и сводится поэзия Вознесенского. Но, пожалуй, структура формирования
зарождаю-
190
щейся вещи и природа тяги к ее
воплощению в слове действительно таковы... Обостренное звуковое восприятие всего, что трогает
поэта: первичное зерно словозвучия или образа на скрещении путей окружающего
мира и поисков
настороженной души; искра, высекаемая находкой еще на «доразумном» уровне; и
импульсивное, ассоциативное осмысление этого уже прорастающего зерна — в погоне за
проносящимися созвучиями и образами. И, по-видимому, почти никакой потребности в
осознанном обдумывании цели своего поиска или предвосхищении общего смысла нарождающейся
вещи.
В сущности, он и сам
не раз говорил нам об этом. Помните, еще в «Треугольной груше»: «Художник хулиганит? Балуй,
Колумб! По наитию дую к берегу... Ищешь Индию — найдешь Америку». Но Индия,
видимо, только
из-за Колумба и названа. Потому что если «по наитию», то, верно, не стоит и
загадывать, чего ищешь; важно верить, что обязательно найдешь свое. И вот в сборнике
«Выпусти птицу» та же убежденность, только обстоятельнее и без запальчивости:
Стихи не пишутся — случаются, Как чувства или же закат, Душа — слепая
соучастница. Не написал — случилось так.
И примерно то же
самое — в прозе (в разделе «Ванкувер» из «Взгляда»), даже с неким
обоснованием; «Видели ли вы, как фотографируют зеркалкой?.. Со стороны кажется,
что человек рассматривает себя, занят изучением собственного пупа... Поэт — та
же зеркалка, когда мир преломляется, попав через нутро. Отсюда и творчество — взгляд в себя, изучение
внутреннего мира. А значит, и внешнего...»
Конечно, привычнее и
намного плодотворнее формула Маяковского: «Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем».
Но ведь Вознесенский говорит О себе. И наверное — правду. Так, может, все-таки поверить поэту, что его
система отображения мира действительно такова? И так как вряд ли в его власти
ее существенно изменить, то не лучше ли вместо сетований на ее несовершенство задуматься
над тем, что она может нам дать. Да и над тем, как она могла сформироваться:
ведь поняв
— намного легче и принять.
191
4
И в самом деле, зачем
это все? Совмещать хлебниковс-кое выведение смысла из звучания с чем-то вроде импульсивной поэтической
публицистики (поскольку ассоциации Вознесенского обычно затрагивают темы,
привлекающие острый общественный интерес) действительно представляется мало
перспективным занятием. Но ведь и Маяковский овладел речью «агитатора, горлана-главаря»,
учась у
Хлебникова. Конечно, он не плыл в фарватере его поэзии — недаром считал, что она
нужна только поэтам, а не читателям: при всем ее богатстве она не готова
давать четкие
ответы на неотложные запросы времени. В этом отношении ее возможности сводятся, в
основном, к углублению общей культуры, то есть близки к роли симфонической музыки или
балета. Ясно, что с этим не мог примириться поэт,
наделенный гражданским темпераментом.
Но для чего же такая
поэтика вообще могла понадобиться Маяковскому? Я снова несколько отвлекаюсь, но Дело в том, что
многие мотивы стихов Вознесенского явно созвучны настроениям, отчетливо выраженным
именно в
эти ранние дореволюционные годы Маяковского. И задержаться здесь
стоит, разумеется, не для того, чтобы сравнивать эти достаточно несоизмеримые
творческие пути по существу, а потому что без этого трудно понять, как противоречиво и
вместе с тем естественно складывалась поэзия Вознесенского.
Что, собственно, я
имею в виду? Прежде всего — обостренное восприятие любой неустроенности, дисгармоничности мира, хотя
у Маяковского оно всегда было резко окрашено социально. Такая строка, как «Я — где
боль, везде», вполне могла принадлежать и Вознесенскому — если не по
интонации {он редко столь определенен), так по настрою. Эта уязвимость толкала
и раннего Маяковского
на воспроизведение болезненных картин. Порой и у него, как самозащита от боли,
рождались взвинченные кричащие строки. С этим была, вероятно, связана и вызывающая
гиперболизация образов и срывающиеся интонации речи, то и дело нарочито
вульгарной.
Очевидно, что эти
тенденции, открыто восстающие против любого сладкозвучия, не могли быть выражены в рамках ритмически
упорядоченной и гармоничной системы стихосложения. Хлебников же обеспечил
необходимую для
их воплощения основу — систему поэ-
тического языка, организуемого за
счет выразительности самого звучания слова или автономной группы слов. Й Маяковский,
опираясь на образность и силу автономных, самодовлеюще звучащих слов, а также
широко используя речевую интонацию, создал свой неповторимый лад высокопоэтической
публицистики. Отказавшись от общей гармонии звучания, он делал особый акцент
на рифме, как правило, яркой, значимой и необычной, которая, в основном, и
цементировала стихи. Получился удивительный сплав поэзии, одновременно
демократичной (благодаря снижению лексики и интонации), доходчивой на слух (поскольку
впечатляющие рифмы, экспрессивные образы и самодовлеюще звучащие ударные
строки, которые несли основную смысловую нагрузку, могли восприниматься
независимо от целого) и, главное, действенной. Действенной, потому что начиная
с первых дней революции Маяковский подчинял каждое стихотворение конкретным запросам
времени и тем самым постепенно обрел в самой жизни то ощущение необходимой
цели, в котором он
нуждался все первые бунтарские годы и которое одно сообщает
творчеству законченность и
единство.
Возвращаясь к
Вознесенскому, естественно предположить, что те мотивы творчества раннего
Маяковского, которые позволяют говорить об известной внутренней близости обоих поэтов,
объясняют (по тем же основаниям) и хлебниковское влияние на Вознесенского. Мало того. Перед ним
был пример, свидетельствующий, что эти мотивы могут быть органически включены в
поэтическую систему высокого общественного звучания. И действительно, если допустить, что он в новых
условиях решал для себя сходную задачу, то
сразу замечаешь, как много общего в
его подходе с тем, что в свое время делал Маяковский.
У нас было уже
немало случаев убедиться, что и Вознесенский опирается в стихах не на гармонию
звучания, а на речевую интонацию, подкрепляемую экспрессивной образностью.
Правда, у Маяковского с годами устанавливались интонации энергичного оратора,
привыкшего выступать перед массовой аудиторией, а интонации Вознесенского скорее
напоминают человека, который самозабвенно роняет толпе отрывистые реплики,
непосредственно не обращаясь ни к кому. И вместе с тем иногда они уди-пительно близки, и
я, например, не колеблясь приписал бы Маяковскому реплику о блюминге из «Скупщика
краде-
ного». Да и образность обоих поэтов
близка по духу, хотя у Вознесенского гораздо отчетливее проявляется ее интуитивная основа.
Видимо, это начало способствует большой активности просторечья у Вознесенского
(вероятно, потому и инфантильного, в отличие от Маяковского) и подчас придает ему
привкус неприличия.
Наконец, выделение
самодовлеющих, ударных сочетаний слов, зачастую воспринимаемых независимо от
стихотворения
в целом, тоже характерно для обоих поэтов. Правда, для Маяковского это скорее всего
излюбленный прием, с помощью которого он заостряет рифму или концовку или до предела
сжатую поэтическую мысль (таковы и немногие приведенные здесь цитаты). У
Вознесенского же нередко автономна большая часть строк в стихотворении — как следствие
ассоциативной разработки и осмысливания его первичного зерна; поэтому
ударные, особо значимые места выделяются до некоторой степени случайно — благодаря
особенно удачной ассоциации (как созвучие «чело — число»).
Почему же, при многих
чертах внутренней близости и сходстве поэтических средств их претворения в непосредственный отклик на
общественно значимые темы, столь разительно отличается общее впечатление от стихов? Потому что в
главном — направленности поэтического воздействия — пути поэтов решительно
разошлись. Если для Маяковского единственной возможностью осмыслить свой
внутренний мир поэтически оказалось выйти за пределы поэзии, удовлетворяя идейные
запросы общества («я
ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви»), то
Вознесенский, по-видимому, в принципе не способен выйти за пределы правды непосредственно
ощущаемого им состояния («стихи не пишутся — случаются»), которую он
осмысливает, в основном,
ассоциативно (разумеется, вместе со всем, что
формирует ее извне).
Сказанное ни в коей
мере не дает оснований подвергать сомнению преданность моего современника тем же
целям и идеалам, какие вдохновляли основоположника советской поэзии, тем
более — укорять поэта этим великим примером. Маяковский мужал в ощущении,
что «мы живем, зажатые
железной клятвой», а наше время, во всяком
случае, предоставляет каждому много больше возможностей для поиска. К тому же поэтом можно оставаться, только не отступая от себя. И быть может,
только
194
исликий способен на такой нравственный
подвиг, как нмйти себя
ценою того, чтобы смирять себя, «становясь )ш
горло собственной песне».
Как бы то ни было, но
разговор о поэтике Вознесенского этим не исчерпан. Пусть она и органична для него и сформировалась
вполне естественно. Но, выходит, почти все, что мы благодаря поэту узнаем о
мире, мы должны осмысливать с помощью ассоциативных связей. Л ведь это связи зыбкие,
случайно возникающие, непрерывно разрушаемые, Безусловно, они необходимы для творчества, наводя на новые
мысли —
по
созвучию, по гцеплению образов или понятий, по смежности с глубинным, полузабытым,
но важным воспоминанием: иногда пни подсказывают неожиданный путь к уже
ожидаемой цели. Но если их не направляет опыт воплощаемого переживания — основа отображения
мира в классическом искусстве,— если все они как бы равноправны и каждая может быть
осмыслена по-разному, то велика ли всему сгому цена? И подлинное ли это искусство?
Я уже говорил, что
многое здесь зависит от точки фения, так что если не искать у поэта воплощения правды целостного
переживания, то он дает не так уж мало. В сущности, он в чем-то возвращает нас к
той изначальной, не обремененной условностями природе искусства, когда оно еще
представляло непосредственную импровизацию Я, свободное от заданности любого замысла,
выражало правду некоторого мгновенного эмоционального состояния, настойчиво
требующего выхода.
Это, конечно,
расходится с распространенным представлением о сложности и даже умственной изощренности стихов Вознесенского. Но не есть ли само
это представление результат того,
что, не учитывая рассмотренной выше
двойственности его поэтики, мы пытаемся только последовательно осмыслить содержание ассоциативного ряда
стихотворения, считая звуковой ряд лишь своеобразным украшением? Если же представить себе, что мы имеем дело с вольной импровизацией, то,
пожалуй, почти все, что могло бы при
ином отношении вызвать недоумение или
протест, окажется на своем месте.
Импровизируя,
естественно отталкиваться от темы, уже знакомой слушателю. И Вознесенский то и
дело обыгрывает перед нами популярные мелодии. Импровизатору легче заслужить
бурное одобрение и продемонстрировать
/' 195
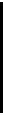 свою виртуозность,
имитируя или полемически переосмысливая признанные шедевры. И таких примеров у Вознесенского,
как мы знаем, хватает. При импровизации намного возрастает значимость
отдельных строк, ослабевают связи между ними. Поэтому, чтобы облегчить ее восприятие,
существенно повторять или варьировать «зерно» развиваемой темы. Но ведь и обо всем
этом, как чертах чрезвычайно характерных для Вознесенского, немало говорилось
выше.
свою виртуозность,
имитируя или полемически переосмысливая признанные шедевры. И таких примеров у Вознесенского,
как мы знаем, хватает. При импровизации намного возрастает значимость
отдельных строк, ослабевают связи между ними. Поэтому, чтобы облегчить ее восприятие,
существенно повторять или варьировать «зерно» развиваемой темы. Но ведь и обо всем
этом, как чертах чрезвычайно характерных для Вознесенского, немало говорилось
выше.
Импровизация по
самой своей природе чужда завершенности (верной приметы реализации
замысла). Ее содержание формируется самим ходом создаваемой вещи, которая может быть оборвана,
в сущности, в любую минуту; .важно лишь от чего-то оттолкнуться. Эту же черту в творчестве
утверждает и Вознесенский: «Нет у поэта финиша. Творчество — это старт». Но тем
самым выбор той или иной редакции текста, существенный при воплощении определенного
замысла, теряет свое значение. Думаю, что с этим связана у Вознесенского и тяга к повторным
вариациям -— вроде упомянутой перелицовки «Исповеди» или списка «ресторанного
меню» в «Художники ужинают».,, (сборник «Выпусти птицу»), варьирующего каталог
«вещевой лотереи» в «Скупщике краденого». И, публикуя «Скупщика» в спортивном журнале,
он столь
же непринужденно вводит туда и тему Спортлото и чуть переиначенный «Жестокий
романс»; а выступая перед многомиллионной аудиторией телезрителей, приводит
цитированное двустишие из «Исповеди» уже в такой редакции: «Сказала: «будь смел» —■
я дружил с динамитом. Сказала: «будь первым» —
я стал знаменитым».
С чем бы мы ни
связывали формирование этой поэтики импровизаций и как бы к ней ни относились, ее
своеобразие
очевидно. Стихия глубинных импульсов и звучаний не только непосредственно запечатлена
здесь в слове, но и как-то соотнесена с общественно значимым восприятием
окружающего мира. А самоотдача потоку случайных ассоциаций скорее всего не просто
внутренняя потребность поэта, но и единственная ■ возможность чего-то достичь в
этом направлении,
Правда, сам Андрей
Вознесенский (выступая в № 4 журнала «Вопросы литературы», 1973) объявляет своим символом веры
гармонию, ссылаясь на завещание Александра Блока — речь «О назначении поэта» — и
оговариваясь,
что «есть разные системы гармонии» (возможно,
196
чтобы несколько смягчить явное
несоответствие между непосредственным впечатлением от своих стихов и завесами
Блока). Допускаю, что эта позиция объясняется искренним стремлением поэта к
гармонии, которое может проявляться и в характерной для него фиксации всего, что бросает
гармонии вызов. Но конечно же манера осмысливать мир, опираясь на ассоциативные
связи, по самой своей природе приспособлена для отображения связей, непрерывно
распадающихся и разрушаемых, и уже по одному этому несовместима ни с какой системой
гармонии.
Да и стоит ли поэту
открещиваться от главного своего достояния? Ведь, пожалуй, именно оно
обеспечивает остросовременное звучание его поэзии и больше всего нас задевает. Потому что
если разобраться, то вся наша жизнь пронизана всевозрастающим числом быстро
распадающихся связей, и мы справляемся с этим, все охотнее прибегая к их
ассоциативному осмысливанию. Оглянитесь и, если не слишком молоды, припомните,
как изменилось все даже за последние пятнадцать — двадцать лет.
Наше время все
плотнее заполняется все более разнообразными впечатлениями бытия, и мы все
менее способны охватить, осмысливать их в целом. Мы встречаемся со все большим числом людей
и, значит, имеем все меньше возможностей по-настоящему узнать каждого. Доступность и быстрота
сообщений, нужды дела и все растущий запас свободного времени все чаще
забрасывают нас во все новые места, расшатывая постоянство жизненного уклада. («Я
пролетом в тебе, моя жизнь! Мы тран-митны»,-— пишет Вознесенский.) Значит,
легче завязываются и легче
распадаются отношения и связи: на них отпущено меньше времени, и это только
естественно при частых поездках и переездах. Значит, все менее уместными оказываются и
глубинные переживания, и в мире эмоций вопросы типа — что же это такое? ради чего?— все успешнее вытесняются
более конкретными и целенаправленными — где, как и когда?
Я не собираюсь
вдаваться здесь в модную и довольно абстрактную тему газетных дискуссий —
беднеют ли наши чувства? Потребность в эмоциональном постижении своего внутреннего
мира, быть может, даже возросла — именно из-за обилия и пестроты впечатлений
внешних. Но сейчас идет речь о том, как мы к этим стремительным изменениям жизни
приспосабливаемся. И не только к быту, но и во всем нашем подходе к культуре.
197
Даже наука — высший авторитет нашего
времени -все чаще вынуждена отказываться от общетеоретического осмысления
изучаемых связей, ввиду их многообразия, и
прибегает к моделированию: воспроизводит (иногда по необходимости, и очень условно) интересующие нас стороны
действительности и как бы непосредственно рассматривает на модели то, что
происходит на самом деле. И эти
далеко не строгие методы все успешнее соперничают
с чисто логическим анализом фактов — недавним
монополистом в точных науках — и все решительнее вторгаются в область гуманитарных наук. (Напомню хотя бы о ценной для этнографии модели
возможных путей распространения
древних культур через бке-аны — знаменитых экспедициях Хейердала.)
А ведь при
моделировании мы, в сущности, отказываемся от анализа причинно-следственных
связей, подменяем
изучаемое явление неким его условным или внешним подобием, а значит, в какой-то мере
прибегаем к связям
ассоциативным. (Так, моделируя миграцию, можно
уподоблять города тяжелым ядрам, притягивающим население тем сильнее, чем больше их масса — си-речь число
жителей.)
Неудивительно, что,
и воспринимая достижения науки, мы все меньше стремимся постичь ее как
единое взаимосвязанное целое (даже специалисты по-настоящему разбираются теперь только в узкой области
знания) и все чаще обращаемся к ассоциациям,
охотно отвлекаясь от общих
закономерностей, чтобы зато как можно нагляднее представить себе то, что как бы происходит на самом деле. (Не это ли способствует и столь бурному расцвету
так называемой научной фантастики?)
А эмоциональный
акцент, пожалуй, постепенно перемещается от интеллектуального преклонения
перед величием теории, устанавливающей незыблемые законы природы, на
непосредственное восхищение теми чудесами, которые, оказывается, способен
совершить человек. (Увы, если величие, например, дарвиновской теории эволюции было открыто и
простому здравому смыслу, то об идеях теории, ведущей к тайнам генетического
кода, непосвященный может
теперь только болтать.)
Я и здесь далек от
того, чтобы обобщать значение этих беглых замечаний, число которых легко многократно
увеличить. Ясно, что все более широкое использование ассоциативного мышления
имеет и отрицательные стороны.
198
(Т(1к, иронические строки
Вознесенского «От женщин |Н)лс-ройсы родятся... радиация!» дают в этом
отношении очень
емкую модель нашего безгранично растущего до-нерия к любой невероятности — была
бы она снабжена хотя бы видимостью научного ярлыка.) Я же веду к тому, что отмеченные
тенденции, видимо, смещают акценты и в духовных запросах общества, вызывая
растущую потребность
в более непосредственном, как бы непреднамеренном отображении мира.
Не потому ли и спорт —
еще недавно оздоровительное мероприятие и утеха узкого круга любителей — стал видом деятельности,
престиж которой все растет и повсеместно вызывает эмоции, яркости которых
впору завидовать и искусству? Не потому ли, что это — превосходная модель борьбы,
основного содержания нашей жизни; и при всей условности это такая борьба, где
все происходит на самом деле, где заданность никогда не мешает творческой
импровизации, и, как и в самой жизни, ничего нельзя точно предсказать заранее, и все отдано тому, чтобы постоянно раздвигать границы
возможного, ннляя воочию, на какие
удивительные вещи способен человек,
Не тем ли особенно
притягательно и телевидение, что, как ни один другой вид искусства, оно
приближает нас к ощущению непосредственного потока самой жизни. И если передача не
подстроена, то наблюдаемые события нызваны только самим их непреднамеренным ходом
и
осмысливаются каждым со всей случайностью набегающих при этом и никем не
подсказанных ассоциаций.
Не потому ли так возросла
и популярность документальной (не прибегающей к вымыслу) прозы, что мы иольны там, не
вникая в замысел автора (который, правда, отражается на отборе материала), как бы
непосредственно погружаться в то, что происходило на самом деле. А искусство фотографии,
которому все чаще отдают предпоч-тение перед попытками живописцев копировать
жизнь, украшая
ее по своему разумению?
А в театре? Неужели случаен успех таких
театров, где
(как на Таганке) в фокусе нашего внимания оказывается не драма переживаний
(раскрываемая в соответствии с замыслом автора), а прямое действие? Где мы ощущаем, каждый актер прежде
всего общается с нами, пусть заданной условной форме; что он живет не столько
199
в образе героя, сколько в этом разворачивающемся
сейчас и обращенном непосредственно к нам сценическом действии, и что,
значит, все, что здесь происходит, отчасти происходит и с нами, то есть в чем-то и на
самом деле.
А Вознесенский?
Разве не близок он к этому в своей поэзии? Ведь и те черты импровизации, какие
мы у него отметили, и его погруженность в стихию звучаний и образов, и то, как
непроизвольно он дает выход глубинным, порой таким болезненным импульсам, и как,
преломляя «мир... через нутро», самозабвенно осмысливает его с помощью ассоциаций,—
решительно все свидетельствует, что нам предлагают непосредственно, как бы
на самом деле приобщиться к сокровенной сути творческой переработки поэтом
впечатлений бытия и впитывать все, на что он при этом оказывается способным. Помните
«футбольное»:
«Только мяч, мяч, мяч. Только вмажь, вмажь, вмажь!» Удивительное слияние с образом.
Принял — обработал — ударил — и беги, повинуясь наитию, не ведая, как обернется
дело через миг, и потому расслабленный, но всегда снова готовый всего себя
вложить в удар.
Полнота этой
самоотдачи, видимо, глубоко задевает поэта. И, в сущности, к ее воплощению он
неизменно тянется и сам. Все, что сопричастно разрушению в окружающем его мире —
точно вызов, требующий мгновенной обработки и ответа. И он снова и снова
устремляется навстречу этому вызову разрушаемых связей, каждый раз высекая из
грозящего гибелью столкновения искры ассоциаций, теплом и светом которых он только и
держится. («Бабочка на свечу, хоть пропаду — я знаю,— но все равно лечу!»} И всем
этим помогает держаться и нам. Потому что всем, что делает, он раскрепощает нас от привычных стандартов
мышления и, не подталкивая ни к каким определенным выводам, приглашает подключиться к его ассоциативному поиску; в сущности, помогает
нам находить удовлетворение и опору
в ассоциативном осмыс-ливании мира
каждый раз, когда целостное осмысливание почему-либо оказывается
невозможным.
Притягательна здесь именно полная
непринужденность сказанного, его явная
необдуманность, что ли. Ведь многое из
того, чем остро задевает нас время, остается за пределами четко осознаваемых формулировок, и нам дорога любая возможность, не заслоняясь от этого
рассуждениями, как-то эмоционально переработать поток прямых впечатлений,
приспособиться, защититься от на-
200
пора быстро изменяющихся условий и
требований научно-технической революции; и вместе с тем противостоять разобщающим
влияниям, сохранить верность себе, не подрывая первооснову наших естественных связей
с природой.
Редкая восприимчивость Вознесенского ко всему, что может при этом нас
травмировать, очевидна, и потому его импульсивные, пусть взвинченные,
выступления благодаря непринужденности сопутствующих ассоциаций почти всегда (каков
бы ни был первоначальный повод) затрагивают и насущные темы этого ряда:
одиночество и многолюдстве,
роботизацию, унижаемую женственность, осквернение природы, безжалостность.
Все это безусловно
отвечает назревшей потребности — как исполненный тревоги голос, предупреждающий о вполне реальных опасностях. А отсутствие ясной цели у этих тревожных
предупреждений и своевольные блуждания потока ассоциаций, порой бесчувственно обнаженных,
все же обычно отступают на второй план, так как сейчас, видимо, все более значимым
оказывается ощущение поиска, разворачивающегося на наших глазах, которое как бы
гарантирует достоверность происходящего (при любой его нарочитости). К тому же
непреднамеренность и необязательность такого поиска позволяет каждому осмысливать
ассоциации поэта по-своему, внося и них то, что близко и важно нам самим.
Если бы приведенные
соображения можно было проиллюстрировать только на примере стихов одного
поэта, то
вряд ли стоило бы на них останавливаться. Но давайте поглядим вокруг.
Разве бурный расцвет в 60-х годах шансонье самого разного калибра — от Окуджавы
до Кляч-кина
■—
не примечателен и утверждением полной непринужденности интонаций (при крайней пестроте
тем и настроений), повышенной интимностью общения, точно со слушателем
делятся строками, только что сложившимися, порой непроизвольно, и уж никак не
придуманными заранее.
Пожалуй, и обаяние Новеллы Матвеевой Во
многом обязано тому, как по-детски непосредственно оне углубляет на вид
незатейливую мысль, расцвечивая <-е
мягкими, зачастую обыденными образами и сопоставлениями, которые, однако, почти всегда неожиданны, потому что автор перебирает их скорее всего не на
пути к однажды намеченной цели, а будто
играя, с добрым доверием к ценности любого уголка жизни, куда ее приведут случай и
судьба.
201
Верно, конечно, что
подобные стихи производят совершенно иное впечатление, чем то, что
предлагает нам Вознесенский. В известном смысле они даже антиподы: от того, что
невыносимо мучительно, попросту отстраняются, а невольно задевая, как бы
обезболивают его, переключая нас на ощущения, в которых естественно искать опору. И
поскольку такой жанр не претендует на глубокий анализ, его довольно часто
укоряли за легковесность. Но искусство, несущее людям облегчение (если оно не иллюзорно), быть может, не
менее важно, чем будоражащее их совесть;
особенно перед лицом всевозрастающих
нервных перегрузок последнего времени. С
этой стороной, по-моему, и связано фактическое возрождение жанра городского романса на новой основе. И вряд ли случайно оно сопровождалось столь
интенсивным обогащением элементами
импровизации: они как нельзя более
уместны, когда нуждаешься в непосредственном общении со слушателем. Так что эта новая лирическая струя в современной поэзии,
по-видимому, как и «нервическая»
струя Вознесенского, удовлетворяет все тому же смещению акцентов в наших
духовных запросах, благодаря которому в искусстве все большую роль начинает
играть выражение сиюминутных состояний, а значит, и ассоциативный поиск.
Нетрудно указать на
сходные черты и в прямых поэтических откликах на все те же беспокоящие нас темы. Так, наметившийся за
последние годы спор между, говоря условно, раздумчиво-неоклассическим
(Межиров, Соколов) и интонационно-публицистическим (Евтушенко, Рождественский)
течениями нашей поэзии во многом обязан и резкому расширению диапазона привычных
поэтических интонаций 30-х
годов. Появилось множество стихов с
интонациями оратора, исповедующегося перед массовой аудиторией (как, скажем, евтушенковское
«Граждане, послушайте меня») г а
некоторые знатоки не замедлили окрестить
их «эстрадными» — в отличие от подлинного искусства. И среди них действительно
немало образчиков пошлости и
пустословия, но я не думаю, что избыток глубокомыслия реже приводит к пустословию или пошлости или менее губителен для дарования поэта, чем
недостаток сдержанности. Как не
думаю, что успех «эстрадных» стихов объясняется преимущественно неразвитостью
вкуса их почитателей.
Поэзия всегда развивалась, вводя в свой обиход то, что
202
раньше лежало за ее пределами. И если
интонации сбивчивой речи, неожиданные, как в кино, смещения планов и ракурсов,
торопливая непоследовательность, когда необходимо выговориться до конца, как и
необходимая недоговоренность, когда, продолжая, только помешаешь подумать другим, да и
просто дерзость,— если все это является Не самоцелью, а органически включено в определенную
<кстему поэтического видения
мира, то и такая поэтика
правомерна не менее любой иной. И надо полагать, что
подобная раскрепощенность, а стало быть, и ощущение
достоверности
при восприятии стихов должна немало спо-
собствовать их успеху, хотя решает, конечно, их
общая
направленность.
Вознесенский явно примыкает к этому
течению и оказывает на
него определенное влияние, но дело обстоит чдесь
не так просто. Много общего проистекает лишь оттого, что родственные ему поэты фактически принадлежат одному поколению и почти все (каждый, конечно,
по-разному) отталкивались от поэтики
Маяковского, Специфика же дарования Вознесенского прежде всего — почти
неконтролируемая связь между глубинными импульсами и их ассоциативным осмысливанием —
способна
скорее оттолкнуть, чем привлечь к освоению его поэтики. Другое дело
— отдельные ее элементы: экспрессивность, ассоциативная образность, как и
способность поэта в немногих словах зафиксировать ощущения, с трудом поддающиеся
осмысливанию, но безусловно значимые,— все это достаточно впечатляюще, чтобы
влиять на
тех поэтов, кому близка основная направленность его поиска. Любопытно,
что даже Евтушенко, у которого отпущенность интонаций сочетается с явной рассудочностью
хода поэтической мысли, как бы примеряется к иррациональности Вознесенского и
иногда затевает нечто ироде соревнования, демонстрируя на сопоставимом материале меру
своего владения элементами его поэтики. (Сравните, например, «Монолог Мерлин
Монро» с повторяющимся словом-зерном «невыносимо» и евтушенковский «Монолог
бродвейской актрисы», где повторяется сочетание «нет роли».) И такие прямые
параллели, а еще чаще — воспроизведение аналогичных приемов можно найти у многих
поэтов.
Однако суть
поэтики Вознесенского к этому, пожалуй, не- причастна; видимо, потому, что, следуя
за нею в целом, очень трудно отстаивать то, чем дорожишь, и прихо-
203
дится уж слишком нарушать принятый
поэтический уклад. Тем не менее и такая поэтика, при всей ее нетрадиционности,
заслуживает полного признания — если исходить из того, что «цель творчества —
самоотдача» (Пастернак). Важно только осознать, что, опираясь вместо правды целостного
переживания на правду мгновенных озарений, поэт подвергает себя жестокому
испытанию. На что все-таки положиться, погружаясь в стихию равно манящих образов и
ассоциаций? Как ограничить себя и отбросить все несостоятельное, чтобы не поступиться своим достоинством поэта? Вероятно, и здесь есть выход — если непоколебимы совесть и вера в
необходимость и правду каждого
сказанного слова; или при высочайшем
накале эмоций, когда оказывается оправданным все. Либо же неизбежен компромисс, когда непроизвольно нахлынувшие
слова приходится приспосабливать к
своему представлению об ответственности за сказанное. Похоже, однако, что Вознесенский отстраняется от
осознания этого выбора и
безгранично доверяет правомерности
непроизвольно возникающих словосочетаний, быть может опасаясь нарушить
полноту самоотдачи.
И так как поэтике
Вознесенского свойственно ассоциативное осмысление жизненных импульсов, а
потоку ассоциаций благоприятствует скорее известная расслабленность эмоций (но
не их высокий накал), то неудивительно, что видение поэта нередко вступает
в противоречие не только с реальными фактами, но и с естественным восприятием
мира и, что грустнее всего, с установившимися представлениями о нравственности.
Разумеется, вполне
оправданны такие поэтические вольности, как
неуместное употребление имени Кучума в «Строках» или упоминание в «Мастерах» о
.семи (вместо восьми) главах храма
Василия Блаженного (за что поэту уже попало от критики): значимость слова в
поэзии отнюдь не рациональна. Не
так трудно как будто примириться с тем, что метафоричность Вознесенского чаще всего идет не от непосредственного ощущения или образа, окрашенного
эмоцией, а от звучаний или
ассоциаций. (Например, георгины в строке «Кому горят мои георгины?» появились
прежде всего потому, что созвучны рифмам двух предыдущих строк— «героине» и «героину»; а «груша» оказалась
«треугольной» просто по ближайшей ассоциации с
геометрической формой.) В конце концов, поэт так видит (или, вернее,
ассоциирует), и к этому довольно
204
быстро привыкаешь — как и к любой
предлагаемой нам художником условности искусства. Но ведь нередко его ассоциации не просто
немотивированны, а прямо бросают низов естественному восприятию. Так, нечто
бестактное иидится в образе зверюшки, которая, слушая поэта: «с негой блоковской Незнакомки... положила перед собой... лапы» (не говоря уже о
том, как чуждо Блоку слово «нега», уместное в наши дни разве что в юмористических рассказах или на
этикетках парфюмерных изделий). А между тем при любви Вознесенского сближать,
казалось бы, несовместимое и такая выходка не противопоказана его поэтике. И
когда столь же беспрепятственно обнажается и влечение поэта (пусть безотчетное)
к болезненным образам, то порой проходят и такие сцены безудержно-бесстрастного
самоистязания, как в «Кабаньей охоте», За последние годы, когда в стихах
Вознесенского отчетливо обозначилась поэтика импровизации, освобожденная от
направляющих рамок сюжета и подчиненности конкретным темам (которая была существенна
еще в •(Треугольной
груше» и «Антимирах»), все чаще замечаешь и ее отталкивающие проявления. Да и
сам поэт ивно ощутил масштабы того опустошения, которое таилось в желанной
полноте самоотдачи. Приведу хотя бы шкие строки
из сборника «Взгляд»:
И стоял я, убийца слова...
Или:
Позорно
знать неправду и не назвать ее, а назвавши, позорно не искоренять, позорно похороны называть свадьбою, да еще кривляться на похоронах.
Должен сказать,
что разговор о «правде» здесь, по-моему, такая же иллюзия, как и мнение поэта о
своей мерности
некоей гармонии. Чтобы «знать неправду», художнику необходимо осмыслить ее в опыте
целостного переживания, а это вряд ли возможно, если не пожертвовать слишком
многим из того, чему отданы лучшие силы, Да и нужна ли такая жертва?
Конечно,
оказавшись перед лицом серьезных трудностей, приятно уповать на то, что во всем
главном идешь по пути, уже намеченному Великими, и тем самым частично
перекладывать бремя своей ответственности перед
205
обществом на них и на изменившееся
время. Но истинному поэту недостойно кривляться нигде и никогда... Не стану, однако,
набиваться в советчики и напомню просто строки того же Пастернака о работе
художника, которые, по-моему, необходимо дополняют самоотдачу:
С кем протекли его боренья? С самим собой, с
самим собой.
Потому что если и можно
что-либо противопоставить безответственности, то лишь верность тому лучшему, что ощущаешь в себе. И
потому, что поэт все-таки расставил свои вехи на вечной дороге поисков
искусства, а по ней
нет пути обратно.
Поиски искусства —
это поиски свободы. Свободы от чего? От всего, мешающего непосредственно
выразить то, как впервые открываешь для себя мир; выразить и нести это свое сокровище,
как светоч, на удивление всем окружающим. На первых порах, когда искусство еще
не выделялось
в череде обычных дел и было естественной эмоциональной составляющей труда, магии или
борьбы, еще не существовало иного поиска, кроме поиска наилучшего выполнения
самого дела, и непосредственность выражаемых при этом эмоций подразумевалась
сама собой.
Но эмоциональный отклик на удачи и потери (сказания, магические рисунки, ритуальные
пляски и песнопения) постепенно принимал устойчивую форму в обрядах и обычаях,
и собственно искусство и родилось, когда, в отличие от повседневно проявляемых
эмоций, установились
и особые формы их выражения, отвечающие некоторым условным нормам. И хотя еще
долгое время искусство совершенно не воспринималось как результат творческой
деятельности человека (очевидно, и эпос древнего мира и даже мифы представляли для
современников просто удивительный рассказ о том, что происходило на самом деле),
еще тогда наметилась его драма. Чтобы оставаться искусством, оно обязано
непосредственно выражать то, что впервые открылось художнику — то есть нести и
неповторимый отпечаток его личности; а чтобы быть осознанным окружающими как
искусство, оно должно соответствовать уже сложившимся условным формам — то есть
оказаться привычным. Здесь суть спора
между вдохновением и ремеслом, между Моцартом
и Сальери...
Отсюда и вечный поиск обновления, освобождения от тисков условностей, но и неизбежность
того, что
все новое, пусть рожденное озарением, получив признание, постепенно
осмысливается и как новый набор условных форм.
Классическое
искусство преодолевало эти противоречия, выдвинув на первый план опыт переживаний художника.
В идеале он мог быть образно переработан в некую целостную картину мира, которая, в
общем, не выходила 1с1 рамки признанных условностей (и благодаря этому легче признавалась
правдивой) и вместе с тем передавала и неповторимость видения ее автора. При этом
обновление поживающих себя условных форм не вызывало в искусстве особых
потрясений, пока каждое новое поколение -читало, что привычные формы, унаследованные
от предыдущего поколения, в целом могут служить и при изменившихся
обстоятельствах.
За последние сто лет жизнь пошла
по-другому. Весь ее уклад изменялся так быстро, что те формы искусства, которые еще
недавно принимались как должное, в новых условиях становились все менее содержательными
и явно устаревали.
К тому же несколько потерял свою убедительность идеал целостной и гармоничной картины
мира, воссоздаваемой
художником: постигая мир, мы руковод-ствуемея теперь, в основном, наукой,
очарованные ее могуществом. Та же наука не только доказала, как несовершенен наш
чувственный опыт перед лицом неисчерпаемо сложных связей и закономерностей
мироздания, но с ее помощью и жизнь общества стала такой необозримо Разветвленной,
зачастую опрокидывающей естественные представления о сущем, что порою и художник
невольно отступает
перед задачей целостного осмысливания своих впечатлений.
И искусство стало все
чаще пересматривать свои нормы, стремясь более непосредственно приблизиться к жизни (хотя многие
воспринимали изменение привычных условностей
как бессмысленное усложнение
формы).
...Кажется, что уже
давным-давно, а на самом деле — лет двадцать тому назад, молодой человек,
заканчивающий архитектурный институт, попутно пишущий для себя (чихи, наделенный
пронзительной восприимчивостью к любым разрушаемым связям и безмерно
уязвляемый ЭТИМ, ощутил призвание к тому, чтобы как можно непос-
редственнее запечатлеть эту сторону
своего бытия в звучащем слове. Считал ли он, что это вообще знаменательно для времени,
верил ли, что на своем пути как-то поможет людям противостоять разобщающим
влияниям или просто доверился своему назначению, но он круто переломил тогда свою судьбу. И
безоглядно отдался опасному поиску, жертвуя
многими из признанных ценностей
поэзии.
Думаю, что именно с этим решением
связано стихотворение «Пожар в архитектурном институте» (1958): «Прощай, архитектура!..
Жизнь — смена пепелищ. Мы все перегораем. Живешь — горишь». И в том же пафосе
самоуничтожения
творчеством, в отблеске другого пламени («Баллада 41 года») он провидчески осветил
то, что ему предстояло пройти;
Рояль вползал в каменоломню, Его тащили на дрова К
замерзшим чанам и половням. Он ждал удара топора.
Семь пальцев бывшего завклуба! И, обмороженно-суха, С них, как с разваренного
клубня, Дымясь,
сползала шелуха.
Металась пламенем сполошным Их красота, их божество... И было величайшей
ложью Все,
что игралось до него!
Все отраженья люстр, колонны... Во мне ревет рояля
сталь. И
я лежу в каменоломне. И я огромен, как рояль.
Мое призвание не
тайна. Я
верен участи своей. Я высшей музыкою стану — Теплом и хлебом для людей.
И рояль действительно запылал.
Жуткий образ, ибо противоестественно сжигать то, что рождает музыку, но
попробуйте представить, что существует рояль, который звучит только когда горит, и так — как горит — и сразу
208
|
Я отражаю штолен сажу. Фигуры. Голод. Блеск костра. И как коронного
пассажа, Я жду удара топора!
передано все. Он и сейчас продолжает
гореть, и тому, кто котел бы убедиться, что это не имитация пожара ради нищего эффекта,
достаточно напомнить несколько строк из стихотворения, посвященного Б.
Ахмадулиной, где так имственно звучат и догорающие струны:
Мне казалось, что жизнь певчей силы заложник.
И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла — мы с тобою себя потеряли.
Да, это то, за что
боролись, У Вас в руках — метеорит. И будь он даже пуст, как полюс, Спасибо Вам, что он
открыт,
|
Стоит ли что-то
добавлять к этому? Я думаю, что поэт действительно верен своей участи, хотя и
неутешительна гнобода, достающаяся ценой такого опустошения... Но мне ли, человеку,
в сущности, другого поколения, настаивать на своем суждении. Дело сделано, и
силы отданы не напрасно, и даже то, что сожжено, бродит перегноем в почве поэзии, и ей уже не
обойтись без этого. Так не лучше ли просто слегка перефразировать слова уже не раз
цитированного поэта, которые, правда, написаны совсем 110 другому поводу:
……….
HOME
![]()