|
|
Знакомьтесь |
|
 ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Андрей Андреевич — поэт ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Андрей Андреевич — поэт
Родился
— в 1933 году в г.Москве.
Учился
— в 1957 году окончил Московский архитектурный институт
по специальности архитектор. C 1958 года по настоящее время
занимается поэзией.
Семейное
положение
— женат. Жена — Зоя Борисовна Богуславская, писательница,
кино- и театральный критик, инициатор и координатор премии
“Триумф”.
Почетные
звания — академик и почетный член десяти академий
мира, в том числе Американской академии литературы и искусства,
Баварской академии искусств, Парижской академии братьев
Гонкуров, Европейской академии поэзии и других. Лауреат
Государственной премии СССР, двух американских премий. Выдвигался
на Нобелевскую премию по литературе.
|
—
В марте 1963 года, когда вы вышли на трибуну кремлевского совещания
“представителей художественной интеллигенции”, Никита Сергеевич Хрущев
перебил вас в самом начале выступления и обрушился с уничтожающей
критикой. По тем временам такая реакция всемогущего генсека воспринималась
как команда “фас”, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не страшно
было?
—
Это и была команда. Я убежал из Москвы, чтобы меня не заставляли
каяться. Уехал в Ригу и спрятался там. Не звонил даже своей матери,
потому что боялся прослушивания телефонов. Но ей позвонил корреспондент
“Ассошиейтед Пресс” г-н Шапиро и сказал: “Антонина Сергеевна, вы
знаете, что ваш сын покончил с собой? Это правда или нет?” Она тут
же рухнула. Вот это страшно было. А остальное — не страшно.
—
Вы выезжали в те годы за железный занавес так часто, как простому
советскому человеку не могло и присниться. Неужели вам не приходила
в голову мысль остаться там? Пример, скажем, Набокова вас не вдохновлял?
—
Набоков — совсем другое дело. У него в России не было судьбы. Не
было стадионов и аудитории. Я никогда не думал, что останусь за
границей потому, что вся моя основная аудитория была в России. Да,
в Америке у меня было двадцать вечеров для публики, громадная аудитория
собралась на мой вечер в Париже, но я понимал, что это — раз в год.
И потом — поэт работает с языком...
—
Говорят, кстати, что некоторые эмигранты-писатели, уехавшие в те
годы за рубеж, тосковали по Москве и называли ее интеллектуальной
столицей мира. Так ли это было на самом деле?
—
Нет, я считаю, что интеллектуальная столица мира — это все-таки
Нью-Йорк. Наверное, так повелось еще с тех времен, когда туда бежала
от Гитлера вся европейская интеллигенция. А Москва — она, быть может,
была энергетическим центром мира, его событийной и нервной столицей.
Она и сейчас притягивает народ. Но интеллектуальная столица — безусловно,
Нью-Йорк.
—
Тогда — о стадионах слушателей, которые вы собирали в 60-е. Как
себя чувствует поэт в такой обстановке? Ощущение власти над аудиторией
вас завораживало?
—
Это же власть обоюдная была. Не только ты властвовал над толпой,
но и толпа над тобой. Стадион диктует тебе поведение, это диктатура
толпы. Поэтому я всегда старался бежать от всего этого, читал на
стадионах все более сложные вещи. Потом эти стадионы прекратились,
слава Богу.
—
Но, тем не менее, вы тогда были тем, что сегодня называется “поп-звездой”.
—
Я был тогда очень наглым парнем. Когда в 60-е надавал в Париже самых
глупых интервью, там ко мне пришел Илья Эренбург, боясь прослушивания,
позвал на улицу и сказал: “Андрей, что вы творите? Вам ведь придется
возвращаться”. И я сам понимал, что в России по возвращении со мной
что-то будет. Поэтому поехал из Парижа в Италию без советской визы
и получил там очень большой гонорар, который нельзя было везти в
Союз и нужно было потратить за несколько дней. Я пил, гулял, дарил
подругам шубы и в конце концов все растратил. Решил оставить себе
только небольшую картину Пикассо, которую он мне подарил. А когда
приехал в Москву, понял, что картина осталась в отеле, когда меня
“грузили” в самолет.
Так
что я был “поп-звездой” со всеми полагающимися этому званию пошлостями.
—
Шестидесятые и семидесятые годы были для вас интереснее, чем нынешние?
—
Нет. Тогда у общества была надежда и цель, и ты жил с этой целью.
Сейчас видишь сложность мира и тщетность всех этих надежд. Если
бы остались те времена, я бы так и остался наивным человеком.
Когда
я писал для спектакля в Театре на Таганке строчки “уберите Ленина
с денег “, то был под влиянием Пастернака, который боготворил Ленина
и считал, что он — это сюрреалистическая и самая сильная личность
двадцатого века. Безусловно, так оно и было. В Театре на Таганке
все взрывалось аплодисментами после этих строк. Сейчас нашли тогдашний
донос из Госбанка в ЦК КПСС, где было написано, что это самые антисоветские
стихи из всех мною сочиненных.
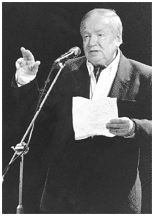 Сейчас я бы в
эти игры не играл, наверное... Конечно, это ошибка была. Хотя, может
быть, и нет. Сейчас я бы в
эти игры не играл, наверное... Конечно, это ошибка была. Хотя, может
быть, и нет.
—
На что же вы тогда надеялись — на “справедливый социализм”?
—
В общественном плане — да. Социализм с человеческим лицом — это
все-таки неплохая формула, если бы ее можно было реализовать. А
мы идем к капитализму 19 века, и это глупость, по-моему.
И
потом — мы считали, что советская империя никогда не рухнет. Думали,
что сражаться с ней все равно, что бить по боксерской груше. А когда
все рухнуло, я говорил с Бродским, и он сказал: “Империю жалко”.
Это очень сложный вопрос — есть геополитические моменты, но есть
и права человека, которые очень важны.
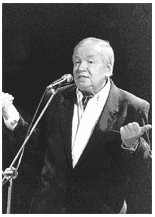 — Вы были в юности
учеником Бориса Леонидовича Пастернака. Как происходило общение
с ним? — Вы были в юности
учеником Бориса Леонидовича Пастернака. Как происходило общение
с ним?
—
Он был человеком монолога, говорил вещи, которые трудно было сразу
понять, поскольку у него все время прыгали ассоциации. Поэтому я
просто открывал рот и слушал. Что-то, конечно, понимал, но и отставал
очень сильно.
Он
был тогда в опале, ему не с кем было общаться, и он все выплескивал
на меня. В результате именно через Пастернака вся “переваренная”
им мировая культура вошла в меня. Это были мои университеты и, конечно,
счастье для меня.
—
Помимо Пастернака кто из тех, с кем вам повезло встретиться, запомнился
вам больше всего, показался самой выдающейся личностью?
 — Хайдеггер, конечно.
Философ, крупнейший мыслитель 20 века, немец. Он пришел на мой вечер
во Фрайбургском университете, остался, и мы с ним проговорили всю
ночь. Мне потом казалось, что я какие-то глупости порол, а когда
получил стенограмму, оказалось, что говорил очень точно. Удивился
даже, каким был умным тогда. — Хайдеггер, конечно.
Философ, крупнейший мыслитель 20 века, немец. Он пришел на мой вечер
во Фрайбургском университете, остался, и мы с ним проговорили всю
ночь. Мне потом казалось, что я какие-то глупости порол, а когда
получил стенограмму, оказалось, что говорил очень точно. Удивился
даже, каким был умным тогда.
И
еще Сартр (французский писатель и философ, лауреат Нобелевской
премии по литературе. — Авт.). Он с женой Симоной де Бовуар
пришел в Москве на обсуждение моей “Треугольной груши”. Тогдашняя
аудитория русских почитателей поэзии настолько его загипнотизировала,
что, уезжая, он сказал, что это было самым сильным из его московских
впечатлений. Потом я встречался с ними в Париже. Сартр с Симоной
де Бовуар показывали мне пикантный Париж, водили на мужской стриптиз.
После
того как Сартр отказался от Нобелевской премии и сказал, что  Пастернаку ее
дали по политическим причинам, он, будучи в Москве, позвал меня
в ресторан на общий ужин. Я решил, что его надо обязательно оскорбить,
пришел на полчаса раньше и сказал: “Сартр, нам надо поговорить.
Зачем вы трогаете Пастернака? Вы же в нем ничего не понимаете”.
Он не обиделся. Тогда я добавил: “Все знают, что вы отказались от
Нобелевской премии потому, что Камю (французский писатель, лауреат
Нобелевской премии по литературе, младший современник Сартра.
— Авт.) получил ее раньше вас”. И вот это его задело всерьез, и
с тех пор мы с ним не виделись. Пастернаку ее
дали по политическим причинам, он, будучи в Москве, позвал меня
в ресторан на общий ужин. Я решил, что его надо обязательно оскорбить,
пришел на полчаса раньше и сказал: “Сартр, нам надо поговорить.
Зачем вы трогаете Пастернака? Вы же в нем ничего не понимаете”.
Он не обиделся. Тогда я добавил: “Все знают, что вы отказались от
Нобелевской премии потому, что Камю (французский писатель, лауреат
Нобелевской премии по литературе, младший современник Сартра.
— Авт.) получил ее раньше вас”. И вот это его задело всерьез, и
с тех пор мы с ним не виделись.
—
С Набоковым вам не довелось встречаться?
—
Я очень любил Набокова как писателя, но Патришия Блейк, редактор
моей американской книги и первая жена брата Набокова, Николаса,
и сам Николас сказали мне, что ехать не надо, потому что Набоков
очень не любит Пастернака и ревнует его к Нобелевской премии. “Он
будет оскорблять при вас Пастернака, — говорили они  мне, — что вы
будете делать?” Сейчас я жалею, что не поехал. мне, — что вы
будете делать?” Сейчас я жалею, что не поехал.
—
Вас ведь тоже выдвигали на Нобелевскую премию?
—
Да. Хотя я тоже сейчас считаю, что она очень политизирована. Хотя
миллион долларов — это очень приятно. Такие деньги дают писателю
свободу.
—
Сегодняшние российские литературные премии не так велики, как Нобелевская,
но намного превышают те гонорары, которые сегодня получают серьезные
поэты и прозаики. Худо-бедно, но советский писатель мог жить за
свои гонорары, а недавно один из молодых, но уже известных российских
прозаиков сказал мне, что получил за книгу прозы в солидном издательстве
гонорар в 300 долларов.
—
Я состою в жюри премии “Триумф”, где каждый лауреат получает 50
тысяч долларов. Всего лауреатов каждый год пять — в области литературы,
музыки, кино. В 2000 году писательскую премию получил Василь Быков,
в 2001 — Татьяна Толстая. Конечно, 50 тысяч долларов для России
— это очень много.
И
уже два года существует “Молодой триумф”. Там 20 премий по 2,5 тысячи
долларов для лауреатов, которым до 30 лет. Голосования нет — просто
каждый член жюри называет по одному лауреату.
Что
касается писателя, о котором вы говорили, хорошо еще, что с него
не взяли деньги за печатание. Молодым сейчас очень тяжело. Пока
нет имени — не печатают. А раз не печатают, нет имени. Хотя... Мандельштам
говорил, что Гомера тоже не печатали.
—
Вам сегодня писать легче или тяжелее, чем раньше?
—
Не легче и не тяжелее. Я работаю очень напряженно, много, и, по-моему,
написанные сейчас стихи не слабее прежних. Всегда боюсь, что в один
день все это прекратится, и жизнь тогда потеряет смысл.
—
Кумир многих интеллектуалов Хулио Кортасар как-то сказал, что пишет
не более чем для десятка воображаемых читателей, в числе которых
мог бы оказаться и он сам. А вы?
—
Я пишу для не более чем пяти близких мне людей. А потом написанное
иногда не совпадает, но чаще совпадает с волной, на которой живет
общество.
—
Среди написанного вами в последнее время — поэма для Интернета.
Но сочиняете вы по старинке, на бумаге, или пробуете работать и
на компьютере?
—
В компьютере есть магия, которая может затянуть. Я лишь диктую на
компьютер и никогда не рисую на нем.
—
В чатах никогда не участвовали?
—
Участвовал. Хотя создается впечатление, что там присутствуют в основном
одноклеточные существа, читать написанное ими очень интересно, так
как люди пишут в Интернете бесконтрольно, как на стенах туалетов.
В конце концов чат — это стихия, свобода, а свобода — это прекрасно.
—
А какой вы видите в этом электронном контексте судьбу литературы?
Дети сегодня предпочитают книге экран компьютерного монитора, у
них уже нет уважения к печатному слову, а скоро и привычка к нему,
может быть, пропадет...
—
Если книга должна погибнуть — пусть гибнет. Кто сказал, что литература
— это именно напечатанное на бумаге слово? Возможно, появится новый
тип литературы — интернетная, более сжатая, более информативно нагруженная.
А раз более сжатая, то у поэтов будет больше шансов, чем у прозаиков.
Но все равно это будет литература. Ведь кроме слова еще никто ничего
не выдумал, правда?
—
Пожалуй, не обойтись без вопроса о самых выдающихся, на ваш взгляд,
русских поэтах прошлого века...
—
Хлебников. Цветаева. Пастернак. Ранний Маяковский, может быть. Часть
написанного Мандельштамом. Заболоцкий. Во второй половине века такого
масштаба поэтов не было. Да и сейчас вряд ли будут поэты такого
крупного помола — каждый работает в какой-то одной своей форме,
как, к примеру, Вишневский с одностишьями.
—
На одном из фестивалей рекламы в Каннах российские рекламисты как-то
представили плакат, где черной икрой по красной икре была выложена
надпись “Жизнь удалась”. А какое у вас ощущение от собственной жизни?
—
В мелком смысле — конечно, удалась. А по большому счету, все жизни
— неудавшиеся. Жизнь всегда не удается. Просто потому, что она кончается
быстро, и ты не успеваешь сделать все, что хотел бы.
Пришло
моё время. Пускай запоздав.
Вся жизнь — только тренинг
пред высшим мгновеньем.
Отходит состав. Пришло моё время.
Оно,
моё время, взяв секундомер,
стоит на пороге.
А кто испугался, душой оскудел —
пусть делает ноги!
 Сердца миллионов
колотятся в такт Сердца миллионов
колотятся в такт
моим бумаженциям.
Со мной — не абстракт! —
на Владимирский тракт
пришла моя женщина.
Мы
— нищие брюхом. Как все погоря,
живу не в Эдеме.
Но Хлебников нынче — ясней букваря.
Пришло моё время.
Да
здравствует время,
с которым борясь,
мы стали, как кремний!
Кругом вероломное время сейчас.
Но каждый в себе своё время припас.
Внутри — моё время.
Меня,
как исчезнувшую стрекозу,
изучат по Брэму.
Ну, что на прощанье тебе я скажу?
Пришло моё время.
|
Классики и
современники о
Вознесенском |
|
Иосиф
БРОДСКИЙ,
поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе:
—
Все это очень просто, даже банально: у Евтуха (Евтушенко.
— Авт.) и Вознесенского всю дорогу были какие-то друзья в
ЦК партии — вторые или третьи, или шестнадцатые секретари
— и потому чуваки постоянно были более или менее в курсе дела,
куда ветер завтра подует... бросали камни в разрешенном направлении,
зная, что они идут на полголовы впереди обывателя. И обыватель
балдел! Вот вся их историческая роль.
БИЗНЕС:
Были во времена “развитого социализма” в руководстве страны
люди, с которыми можно было найти общий язык?
Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: В руководстве — нет. В руководстве
были жулики и бездарные люди. Хотя в своем деле они, может
быть, и гениями были.
Чтобы
пройти от секретаря первичной партийной организации до генсека,
нужно было освоить в совершенстве все это византийство — уметь
годами выжидать, чтобы сделать, когда нужно, прыжок, перегрызть
горло, предать всех. Но с точки зрения нормальной — это, конечно,
серость была... Поэтому нет, таких людей там не было.
БИЗНЕС:
Если не считать окриков Никиты Сергеевича, вами как-то пытались
руководить? Подсылали ли людей, чтобы они вас направили на
“путь истинный”?
Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Конечно, там были... Загладин (очень
крупный функционер ЦК КПСС. — Авт.) был такой... были
люди, которые пытались со мной поговорить... Но они были умными
людьми и понимали, что это бесполезно. Разные цели у нас были
в жизни.
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ,
скульптор (из интервью):
—
Сейчас модно стало ругать и Евтушенко, и Вознесенского. Их
стало модно презирать, поругивать и так далее. В такой ситуации
меня всегда интересует не кого ругают, а кто ругает. Если
Евтушенко или Вознесенский не нравятся Бродскому, то это вполне
понятно, потому что Бродский доказал, что не хочет быть ни
Евтушенко, ни Вознесенским. Но очень часто эту пару ругают
люди, которые хотели быть ими, но не смогли.
БИЗНЕС:
А зависть писателей к чужому успеху мешает работать?
Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Нет. Раздражает, скорее. Но это уже
сейчас не мешает, а раньше мешало сильно. Когда ты что-то
печатаешь, никто тебе не позвонит после этого, и чувствуешь
глухую стену.
|
|