|
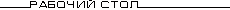 
Степа Кедров
 Аритмия Аритмия
редактор - Юлия Тишковская
Время
не идет. Нет, не остановилось, — буксует. Вразнобой с метрономом секундной
стрелки. Спотыкается, но упрямо шагает дальше, скрипит по снегу, гулко капает
из плохо закрытого крана, неуверенными нотами сыплется из-под пальцев
мальчика, разучивающего сольфеджио. Будто бы ритм этот выхода не находит, — и
вбирать его приходится в себя зудом, ночами бессонными, — чтобы выплеснуть,
оживив его Словом, превратив его в Музыку.
Ритм, пульс,
сердцебиение нарушено, но сердце — бьётся.
Этот ритм горлом идёт, булькает во рту,
и сбегают слова с нижней губы по подбородку, —
здесь Поэзия, проступающая пятнами на белоснежных сугробах (Бог весть, что
под ними похоронено),
здесь Немногие, кто вибрирует согласно этому пульсу,
в унисон с этой аритмией.
Среди них — Вознесенский.
Каждый стих — кардиограмма,
отключенный разум, когда остается только этот ритм, только эта боль.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Человек устал, устал от нестерпимого крика полоски света, прищемленной
дверьми, устал и хочет тишины, будто нервы обожжены,
но
снимает — для себя или для нас, невелика разница — кардиограмму за
кардиограммой. Познать тайну невыразимого.
Скрымтымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим.
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрымтымным…
Мы вольны стоять, не делая ни шагу, — эта аритмия, подобно эскалатору, тянет
нас в себя, в безвоздушное пространство, в измерение молчаливого понимания,
сквозь сущность размытых формулировок, предлагает нам отведать электричество
на вкус. Если знобит, то бесполезно пытаться согреться.
Прости, сердечко оцепенелое!
Врач возвратит тебя, подожди,
дистанционно сердцебиение
реанимирующей нас звезды.
Так с визгом вздрагивает струна. Так заедает в плеере диск. Где-то здесь
находится причиняющая колющую боль рифма, где-то здесь стержнем мелко
исписывается чистая страничка. Если приступ кашля, музыке легко надломиться.
Вознесенскому хочется сохранить эту трепетную акустику, ибо он знает, что
музыка потухнет столь же быстро, как зажженная спичка. Надо успеть согреться,
успеть порадоваться, удержаться, не закашлять.
Сыграй, кузнечик, сыграни…
Ведь жизнь твоя еще короче,
Чем жизни музыкантов прочих.
Хоть и невечные они.
Рифма есть верно взятые ноты, которые заставляют
вздрагивать, пленительная боль, которую хочется испытать. Вознесенский здесь
очень смел, — откуда эта хамская уверенность,
способность, не зная правил, выдумать их и подчинить нас им? Вернее будет
сказать — нежелание подчиняться правилам как еще одно правило. Вознесенский,
не задумываясь, предпочтет нужное слово точной рифме или безукоризненной силлабо-тонике, он возьмет рифму
неточную, а еще вернее сказать, очень и очень спорную, но сгладит это
внутренним созвучием на первый взгляд чужеродных вещей, приведя их к общему
знаменателю.
Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.
Стихи его — наизнанку. Стыдливо — но догола. С кровью — но до счастливого
исступления.
Искусство — мастурбация души.
Честнее всенародно, чем приватно.
О да, опрокинуть кружку с этим озером на нас, даже не подумав, — а не
захлебнемся ли мы? Опрокинуть свое озеро — до опустошения.
Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерождённую вещь.
Во имя чего? Какая этим всем преследуется цель? — добровольное самосожжение,
развеять по ветру прах, чтобы он осел в неизмеримом километрами радиусе.
Вознесенский осознает, что это во имя Бога, это служение Его делу, это Его
прерогативой является говорить. Тише… дайте услышать…
А может, ангел провалился в сеть
и плачет, падший, из воздушной ямы?
— Когда Господь захочет миру спеть,
мы — ямбы.
Признавать Его, принимать как данность одностороннее общение с Ним — это
выстраданное. Это — когда не ищешь спасения, а просто спасаешься.
У Бога ответов много,
но главный: «Идите к Богу!»
Легко, казалось бы. А вот накрывает волна — и мало надежды на собственные
силы. И не хотел бы сам, а рвется изнутри крик о помощи.
Дай мне выплыть из бездн. Я забыл тебя, брасс.
Руки-ноги мертвы, блядь.
Дай мне, Господи, выплыть единственный раз.
Дай мне выплыть.
Ломаные строки, трудно читать, — сродни тому, чтобы протаптывать дорожки в
снегу вместо ходьбы по тротуарам. Но здесь ведь поразительная аритмия: поэт
задыхается, — запыхался, будто бежал. Надо расставить акценты, услышать, где
он переводит дух.
Я не знаю, [вдох] как остальные,
Но я чувствую [вдох] жесточайшую
Не по прошлому [вдох] ностальгию —
Ностальгию по [вдох] настоящему.
«Я музыка горя», — говорит Вознесенский. Желая отдышаться, он невольно вместе
со всеми вдыхает гарь.
Пей или ругай —
Но в сознанье всех —
Гарь, гарь, гарь.
Это пахнет грех.
Угорелые народы,
Угорелая свобода.
Некуда открыть окно.
И мы стоим и пытаемся уловить правила его игры. И если уловили, — хоть отдаленно,
— значит, мы ее приняли. И неважно, в каких ритмических рисунках
запечатлеется наше дыхание, кто потрудится закодировать его хоть в чем-то. Но
тот, кто таки потрудится — он и есть художник. Вознесенский далеко не
единственный, но он — один из. Как тот хирург.
Там раненый на хирурга
Хрипит, без наркоза стерпя:
«А ты за кого, херуга?!»
— Дурак, за тебя.
Увязывать поэзию в некую логическую последовательность, якобы согласованность
— дело неблагодарное. Все равно что помещать диких
зверей из джунглей в зоопарк. Но, вероятно, это лишь здоровое желание
укротить слова, усмирить их, оградив вольерами синтаксических конструкций. А
ведь есть чего опасаться, говоря по совести. Будто каждое слово под катом
скрывает неведомый разуму (ведомый лишь Богу) подтекст.
Безысходный ужас зачастую сквозит в словах Вознесенского, страх за то
общество, которое его окружает, за нас, проще говоря. Мы все окружаем друг
друга.
Духовной жаждою томим,
несмотря на паспортные данные —
не читайте! не завидуйте! —
я гражданин
страны страдания.
И туда же, о том же, мои комментарии излишни.
Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.
…
Мне всё же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.
Мы, похоже, расчищаем новые полигоны, разве жалко для этого человеческих
жизней, а тем более — своих? Вероятно, положить свои души во имя какого-то
Нечто кажется куда как менее бессмысленной вещью, нежели не делать этого.
Где-то здесь она и есть — пресловутая АКСИОМА САМОИСКА, и здесь, и везде. Как
ни крути. Как ни избегай. Как ни выжигай в себе невысказанное.
Художник обычно не то чтобы одинок, но рядом чаще всего не оказывается того, кто
способен тащить с ним один камень, поэтому в любом случае поэту приходится
всё делать самому, и он успел уже осознать это. Как говорится, мечтать не
вредно. Но ведь так невыносимо не мечтать!
Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтобы вытянул петь со мной!
Вознесенский — не эпоха, не «наше всё», не «наше будущее», — не будем вешать
на него такие ярлыки, это как отяжелевшая от налипшей грязи обувь, это
обязывает, что плохо — непонятно к чему. Вознесенский — личность,
Вознесенский — Слово. Он не отвечает на вопросы, чего от него многие смели бы
требовать, он задаёт их.
В ответы не втиснуты
судьбы и слёзы.
В вопросе и истина.
Поэты — вопросы.
Эта поэзия, повторюсь, — аритмия, сердечная недостаточность.
Агония.
Удушье.
Ибо если зажать подушкой, сердце начнёт бешено
колотиться,
пока не остановится.
А часы будут продолжать отстукивать своё невозмутимое время.
|
![]()
![]()
![]()
![]()