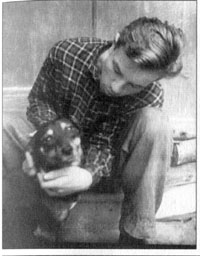
МОЕ ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Мальчик возвращался из школы по зимним курганским улочкам. Плечи второклассника стягивал ранец. Смеркалось.
В одноэтажных домишках кое-где таинственно зажигались святочные слюдяные окна. Уральский морозец щипал щеки малолетнего москвича. Он дышал через шарф.
На углу Железнодорожной улицы он заметил трех огольцов, чем-то занятых у сухого дерева.
«Аборигены, — размышлял мальчик, — гвардейцы кардинала хуевы. Ща отметелят. Пора съебывать через пустырь».
Но подростки не обратили внимания на нашего путника. Они играли в гестаповцев. Главный был одет в черную шинель, на пряжке ремня отсвечивали буквы «ЖУ». Судили партизанку. Партизанкой была дворняжка, вернее, щенок черный с рыжими подпалинами. Дерево служило виселицей. Кутяш тыкался мордой в руки мучителей, не понимая плачевности своего положения. Четвертый побежал домой за веревкой. Шел допрос.
— У, засранка, комсомольская проблядь! Где Сталин?! Отвечай, падаль. Ссы на его портрет, а не то вздернем — блядь буду, вот те крест, век свободы не видать...
— Хуй вам в жопу, — отвечала героическая партизанка. — Сталин придет, всех вас раком выебет. На жопу глаз натянет! Вам всем срать не досрать до великого вождя.
Мальчик подошел ближе. «А ведь они замудохают щенка».
— Ты чо?! Хули тебе, куированный? — Гестаповцы уставились на мальчика.
— Москвичка — в жопе спичка, — тоненько завопил дразнилку меньшой из них, тот, который озвучивал партию партизанки.
— Курган — в жопе наган, — находчиво отпарировал москвич. — Пацаны! Махнемся? Кутенка — на лупу...
Он достал из кармана свое заветное сокровище — увеличительное стекло, все в ссадинах от ношения в кармане. «За собачку, бля...»
Сделка состоялась. «Ну, хуярь отсюда, — прокричал ему вслед старший. — Ишо раз поймаем — отпиздим».
Мальчик бежал домой. На груди, под пальто у него дышал теплый комок, билось сердечко, существо еще более беззащитное, чем он, которое он мог спасти, помочь.
«Как охмурить родителей? Ни фига, щеночек, прорвемся как-нибудь...» — думал малыш.
«Спаситель мой, Виконт де Бражелон, незнакомый рыцарь мой, ты пахнешь бубликом, цветочным мылом, чистым детским потом, мое сердечко разрывается от преданности к тебе, я вырасту большой, буду защищать тебя от жестокого мира, буду есть из твоих рук, ах, боже мой, какое счастье — засыпать на его груди», — думала обмененная пленница.
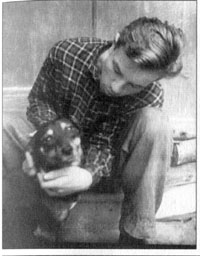
Назвали ее Джульбой. Она провожала меня в школу, прячась за кустами, ожидала после уроков, вижжа от вожделения, прыгала и лизала в лицо.
Собственно, мы были почти одной породы с ней, дети огородов, чистых низких инстинктов. Уровень наших глаз совпадал. Мы видели мир снизу.
Мы воровали подсолнухи, жрали жмых, были свидетелями кошачьих, куриных и собачьих свадеб. Постоянно голодные, мы, как и наши четвероногие собратья, промышляли, где бы что откусить. Как и они, мы настороженно относились к взрослым, опасаясь подвоха. Мы дразнили старшего мальчика «проститут» за его страсть с козой. Он был неопрятен, соплив, но улыбался чему-то неизведанному нами..
Лексикон, ныне называемый ненормативным, выражал для нас чистую, первозданную суть природы. Мы знали и, спрятавшись, глазели, когда по утрам сосед Николаев шагал в дощатую скворешню уборной. За ним шла красавица Надежда. Когда он садился на очко, как на трон, она становилась перед ним на колени.
Джульба была с нами и, затаившись, замирала.
Порой я прятал ее под кроватью, и мы засыпали с ней, сопя от счастья и понимания.
Когда приходили гости и собиралось застолье, меня клали за занавеской в той же комнате. За полночь они пели песни. Как-то, помню, мама, нарядная и раскрасневшаяся, заглянула за занавеску.
— Ты что не спишь?
— Песню жду.
— Какую еще песню?
— Про мышку.
— Про какую еще мышку?
— Про шумелку.
— ??
— Шумелка — мышь... мышка...
— Какая же мышь-шумелка? Она тихая...
«Шумел камыш, шумелкамышумелкамышумелкамыш», — затянули гости. Я уплывал в эту мелодию. Джульба посапывала в такт под одеялом.
Хозяйка наша Анна Ивановна, пустившая эвакуированных в свой дом, под вечер садилась на крыльцо и, дыша перегаром, трепала Джульбу: «У, шишига, кикимора лесная, девочка, целка ты, еще не ебаная»... Джульба урчала от счастья.
Но однажды отец объявил, что завтра мы уезжаем в Москву. Ура!
— А Джульба? — Мы с сестрой ударились в рев. Родители переглянулись и обещали взять ее с собой.
На станции во время погрузки, среди летней пыли, она томилась, привязанная к столбу. Ее должны были отправить грузовым вагоном вместе с лошадьми.
— Охуели совсем! — взмолился измученный хозяйственник по фамилии Баренбург. Он матерился дискантом, как будто мелко крестился. — Да она же лошадей покусает...
Задыхаясь, я бежал от станции к дому на Железнодорожной. Передо мной, визжа от счастья, неслась Джульба, понимая, что бежит домой, но не чуя, что мы расстаемся.
Под стук колес, зареванный, не простив предательства взрослых, я написал первые в жизни стихи. О первой сердечной боли, о первой любви.
Джульба, помнишь тот день на станции,
Куда на веревке тебя привели?
Трудно было расстаться нам
В этой серой курганской пыли.
Джульба, помнишь, когда в отчаяньи,
Проклиная Баренбурга что есть силы,
Клялся тебе хозяин
Не забыть тебя до могилы?
Анна Ивановна прислала нам письмо. Во первых строках она сообщала, что Джульба как сбесилась, она врывается в комнаты, ищет, кидается на людей, не ест, воет. «Все ищет мальчика», — писала хозяйка.
Фото: